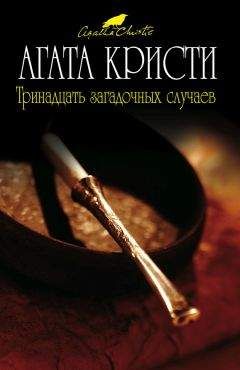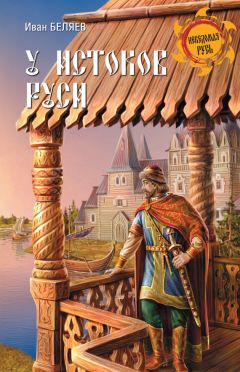Иван Беляев - Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева
«Дорогие папа и мама, – писал он, – теперь я уже все знаю. Зачем только вы меня обманывали сказками, что я родился в капусте, а Федю принесли аисты. Теперь я уже не ребенок». Вскоре пришло другое письмо от самого Лавинского – он горько жаловался, что мальчик отбил у него любовницу француженку, и просил взять его домой.
Старших детей снарядили в Петербург в гвардию. За ними потянулись три подводы с серебром, бельем и посудой. Но они доехали только до Нарвы, где все было спущено талантливыми учениками екатерининского вельможи. Пришлось отправить их на Кавказ, где оба погибли от лихорадки на черноморской линии.
Остался один лишь Федор, который попал на службу при более скромных условиях. Но после [отмены] крепостного права, уже полковником в отставке, он бросил имение, – уступил его сестре и умер в Петербурге. Насколько крестьяне боготворили прадеда и его дочь, настолько ненавидели ее брата, воспитанного в аракчеевской школе. Дедушка прослужил 40 лет и последние годы провел в Леонтьевском вместе с бабушкой, которую обожал и желания которой считал для себя законом. У них осталось шесть дочерей (три замужних и три незамужних) и два сына, служившие в лейб-гвардии Финляндском полку. Зимние месяцы вся семья проводила на их казенной квартире.
Об отцовском доме у меня осталось смутное воспоминание. Но несмотря на то, что я был еще крошкой, некоторые картины навсегда врезались в мою память. После смерти мамы к нам переехала тетя Туня, чтоб помочь вдовцу справиться с пятью детьми. Через год отец женился на пышной красавице из небогатой купеческой семьи. «Только что случайно познакомился с двумя барбарышнями (это было его любимое выражение), – говорил он нашим под впечатлением встречи, – одна – пышная, как булочка, другая – как калачик». Ему было всего 32 года, ей 16. Заботился ли он в эту минуту о детях? Конечно, нет. Но в нем кипела здоровая кровь, он казался гораздо моложе своих лет. Кто мог судить его? И сироты остались на попечении мачехи или, вернее, беспечной няньки Ольги.
Кроткая Махочка поступила в Смольный. Старший Сережа, никак не мирившийся с новыми порядками, – в военную гимназию. Оставалось трое: кроткий и тихонький Мишуша, характерный Володя и я[6]. С этой минуты начинаются мои воспоминания.
Помню огромные комнаты с большими окнами, выходившими на Литейный, – отец уже служил тогда в Главном артиллерийском управлении. Помню доброе лицо дяди Алексея Михайловича[7], его поседевшие баки, когда, наклонившись надо мной, он помогал отцу дать мне лекарства – я лежал с воспалением легких. Помню и редкие светлые минуты, когда приходили гости и заботливая тетя Туня совала мне потихоньку в рот домашние котлеточки.
Как я ликовал, когда нас везли к дедушке и бабушке в Финляндский полк. Как я ревел при виде отцовской квартиры, тусклых фонарей у подъезда, бросавших красноватый отблеск на пушки у ворот Управления. Помню, как возмущался я, когда вместо встречи наших, возвращавшихся с войны в цветах под звуки музыки и несмолкаемые крики «ура», или вместо давно обещанной поездки к самоедам, катания на оленях по Неве меня отвозили «домой»… Помню также, как, изображая пожарную команду, с диким свистом катали мы по всем комнатам люльку с новорожденным Колей[8], пользуясь отсутствием старших…
Но когда отец получил назначение командиром 4-й батареи лейб-гвардии третьей гвардейской и гренадерской бригады в Варшаву и все мы очутились у бабушки и дедушки, мы ожили. Нас окружила там та теплота душевная, та неподдельная любовь, в которой мы так нуждались после смерти мамы.
Главную роль в нашей жизни играли незамужние тети. «Редко у кого найдется такая мать, как эти две ваши тетушки», – повторяли все кругом. И это была чистая правда. Тетя Туня, спокойная, сосредоточенная и выдержанная, всегда прилично одетая, бывшая смолянка, подрабатывала уроками музыки, учила всех нас на рояле и исключительно посвящала себя заботам о нашем здоровье и материальном благополучии. Старшая тетя Лизоня[9], безалаберная в жизни, но талантливая и познаниями далеко превосходящая сестер, получила воспитание в прекрасном пансионе известного литератора Чистякова, человека редкой души и высокообразованного. Она была любимицей прабабушки и носительницей всех семейных преданий.
Младшая, тетя Женя[10], стояла от нас гораздо дальше, но приносила всем нам величайшую пользу своим систематическим и настойчивым преподаванием: всех без исключения детей она готовила по программам в корпуса и гимназии, готовила по выработанной рутине, восполняя все пробелы и не давая уклоняться от нормальных требований. Сéрдца в эти занятия она не вносила, к урокам относилась формально, но безукоризненно.
Обе старшие любили меня по-разному. Тетя Туня укладывала нас спать, умывала и одевала, водила гулять. Когда она отлучалась ненадолго, я тосковал и горячо молился Богу о ее возвращении. Ее любимцем был Володя, немного леноватый и упрямый, но обладавший природным умом и отзывчивостью.
Тетя Лизоня была самородком. Талантливая художница, посещавшая академию, она оставила несколько прелестных этюдов в карандаше (чудную головку юного рыцаря и др.) и в масляных красках (Екатерина Великомученица и прелестный портрет нашей мамы). Свое искусство она передала моему брату Мише и отчасти мне. Заразила она меня и своей ненасытной жаждой к просвещению и широтой гуманных взглядов. Резкая и деспотичная, она не выпускала меня из своей комнаты.
К сожалению, обе были «на ножах». При общей тишине, господствовавшей в доме, малейший предлог вызывал бурю, и лишь угроза дедушки отослать детей в Варшаву к отцу заставляла обеих прекращать распрю. Я горячо любил каждую из них и всегда молился, чтоб мне умереть раньше их. Но эти «истории» не давали мне покоя. Малейшая радость, малейшее оживление с моей стороны неизменно кончались скандалом, и я всегда находился между двух огней. Остальные избегали этого среди детей младших тетей Ади и Лели[11], которые временами наполняли дом веселыми беспечными играми под надзором любящих матерей. Редко когда мне случалось принимать участие в их радостях – это сейчас же вызывало неприятности. Эта замкнутость заставляла меня обдумывать и переживать многое, неизвестное детям, выросшим в здоровой семье. И эта двойственность отразилась на моем характере и, впоследствии, на всей моей судьбе.
Остальные тети в молодости были очень хороши собой. Тогда [в дни их молодости] старики имели несравненно больше средств, и летом в их имении все время давались спектакли и устраивались всяческие увеселения. Дом толпился знакомыми, по большей части интеллигентной молодежью. Тургенев, Гончаров, Григорович, Дружинин бывали среди гостей. «Александра Ивановна – настоящая греческая богиня», – говорил Тургенев. Елена Ивановна поражала своей кроткой манерой держать себя. Обе выделялись чудным голосом. «Мадочка» – так звали маму – была еще девочкой и не могла участвовать на семейных праздниках. Она молча жалась к матери и глубокими темными глазами, почти без радужной оболочки, выглядывала из-под ее рукава. В числе молодежи тети чаще других вспоминали молодых грузинских князей Андроникова и Церетели. Последний посетил нас много лет спустя, уже отцом юного гвардейца конноартиллериста и предводителем дворянства Кутаисской губернии. Эта встреча растрогала всех нас до глубины души.