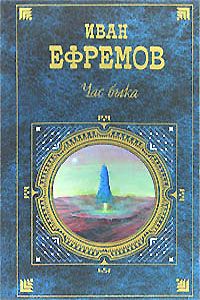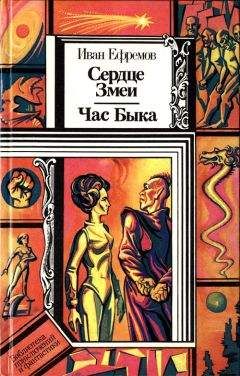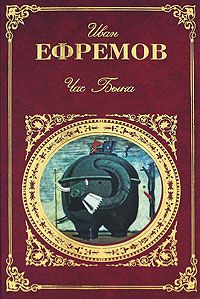Михаил Казовский - Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…
– Значит, не влюблен? – осведомился Валуев.
– Совершенно. Я страдаю от неразделенной любви к мадам Хвостовой, кузине Додо.
(Евдокия Ростопчина, до замужества Сушкова, приходилась двоюродной сестрой Катерине Сушковой, вышедшей за Хвостова).
– Это он нарочно, – заметил Монго. – Для отвода глаз. А на самом деле никаких чувств к Кити давно не питает.
– Ты почем знаешь?
– Я тебя, племянничек, как облупленного знаю.
Неожиданно лакей доложил:
– Ее сиятельство графиня Мусина-Пушкина.
Трубецкой даже хлопнул в ладоши.
– На ловца и зверь бежит!
Лермонтов фыркнул.
– Я с тобой посчитаюсь, Серж, и за «ловца», и за «зверя»!
– Ой, ой, ой. А отчего мы вспыхнули, мсье любострастник?
В залу вошла Эмилия Карловна, раскрасневшаяся от вечернего холодка.
– Извините, господа, за мое столь позднее появление, но никак не могла раньше вырваться. Саша, младшенький, раскапризничался, не хотел идти с нянькой в спальню.
– Мы уже не надеялись, – пошла ей навстречу Маша. – Чай будешь?
– Да, пожалуй. В дороге слегка подмерзла.
– Весна нынче прохладная.
– В Петербурге всегда прохладные весны.
Граф Валуев поинтересовался:
– Как здоровье супруга, Владимира Алексеевича?
– Слава богу, пишет, что неплохо.
– »Пишет»? Разве он в отъезде?
– Он теперь в Москве. Чтобы продать или заложить одно из имений.
– Все-таки решили продать?
Милли потупилась.
– Некуда деваться. Страсть Владимира Алексеевича к игре дорого обходится нашему семейству.
Трубецкой заметил:
– Но порой он бывает в прибытке, как я слышал. Говорили, месяца два назад выиграл у Потоцкого более ста тысяч.
– А спустя неделю все проиграл да еще и должен остался.
Маша Валуева перекрестилась.
– Вот несчастье, Господи, прости.
Милли улыбнулась.
– Ах, не нужно за нас переживать. Мы с Владимиром Алексеевичем серьезно поговорили накануне его отъезда в Москву. Он поклялся больше не садиться за ломберный стол.
– Дай-то Бог, – вновь перекрестилась хозяйка.
Разговор пошел на отвлеченные темы, затем Лермонтова попросили что-нибудь почитать. Он вначале отнекивался, но потом, хитро посмотрев на Мусину-Пушкину, сказал:
– Разве что вот это.
Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.
Гости засмеялись, стали громко выражать свое восхищение. Эмилия Карловна, пунцовая и смущенная, бормотала оправдания, вроде: «Я не понимаю, чем вызвано…», «Не давала повода…», «Мсье Лермонтов шутит…»
– Ясное дело, шучу, – проговорил поэт.
– Э-э, позволь тебя уличить в лицемерии, – возразил Монго. – Тон стихотворения хоть и веселый, но по сути все верно. Наша графиня действительно прелестнее лилии, обладает удивительно тонкой талией и в глазах ее итальянский блеск, несмотря на шведские корни. Про Бастилию – тоже правда: сердце принадлежит только мужу.
– Ты уверен? – усмехнулась Ростопчина.
– Был уверен до настоящего времени. Неужели ты знаешь, Додо, то, что неведомо нам? И Бастилия пала?
Все опять засмеялись. Мусина-Пушкина сказала:
– Господа, я считаю сию полемику на мой счет неприличной.
– Извините, Милли, вы правы, – поклонился в ее сторону Столыпин. – Мы с Додо слегка увлеклись. Этот башибузук Маешка вечно выбивает солидных людей за рамки благопристойности.
– Прекрати, Монго, или мы поссоримся, – проворчал Лермонтов.
– Умолкаю, ибо наш гений страшен в гневе.
– Представляете, Эмилия Карловна, – продолжил ерничать поэт, – Монго и Додо утверждали до вашего приезда, будто я от вас без ума.
Мусина-Пушкина помолчала. Затем тихо спросила:
– Разве это не так?
Михаил растерялся от этого вопроса, но быстро нашелся:
– Так же, как и все: нет мужчины в свете, кто бы не увлекся вами.
– Но они не сочиняют обо мне столь очаровательные стихи.
– Вам понравилось?
– Безусловно. Кроме последних строчек.
– Что же в них дурного?
Графиня вздохнула.
– Участь любой Бастилии незавидна…
В воздухе повисла напряженная тишина. Произнесенный намек был весьма прозрачен.
– …посему такое сравнение неверно. Сердце мое – не Бастилия, а Тауэр: он не знал разрушений.
Михаил расхохотался.
– Нет, сравнение с Тауэром не подходит.
– Отчего же?
– Оттого что не в рифму.
Все рассмеялись вслед за ним, и Эмилия Карловна тоже. Покачав головой, она ничего больше не сказала.
Вскоре начали разъезжаться. Первыми ушли Монго и Трубецкой, чтобы успеть посетить знакомых артисток кордебалета после спектакля, за ними распрощалась Ростопчина, лукаво погрозив Лермонтову пальчиком. Затем поднялась и Мусина-Пушкина.
– Вам пора? – огорченно спросил Михаил.
– Да, уже двенадцатый час. И хозяева от гостей утомились.
– Милли, не спешите, – возразила Маша Валуева.
– Не могу, ибо неприлично замужней даме пропадать из дома надолго в отсутствие мужа.
– Разрешите вас сопроводить? – не сдавался поэт.
– Разрешаю – только вниз по лестнице до парадного.
– Ну а если до вашего парадного?
– Нет, ни в коем случае.
Он подставил согнутую в локте руку, и они вышли из дверей залы. Оказавшись наедине с Михаилом, Эмилия шепнула:
– Замечательные стихи… я не ожидала… И весьма тронута…
– Это был экспромт. В письменном виде их не существует.
– Нет, они уже существуют: я приеду и сразу запишу их себе в дневник.
– Вы ведете дневник?
– Да, веду, чтобы изливать душу самой себе. Больше некому, к сожалению…
– Ну а вдруг прочтут посторонние?
– Я надежно прячу. А в конце года, когда на улицах Петербурга начинают жечь рождественские костры, чтоб обогревать нищих и бездомных, бросаю очередную тетрадь в огонь.
– Неужели вы так одиноки?
– Невообразимо.
Лермонтов повернулся к ней лицом, и увидел, что Мусина-Пушкина плачет.
– Боже мой, дорогая Милли… – голос его предательски дрогнул. – Умоляю, не надо слез. Вы отныне не одиноки, поверьте. Потому что я с вами.
– О, Мишель… – простонала она. – К сожалению, вы со мной, а я с вами только мысленно.
Он покачал головой.
– Нет, моя любимая – лишь одно ваше слово, лишь одно ваше «да», и мы будем вместе и душой, и телом.
Наклонившись, Михаил коснулся губами ее мокрых губ. Эмилия ответила робко и нежно, чуть подняв подбородок. Затем прошептала:
– Дорогой, любимый… это невозможно.
– Отчего же?
– Я клялась перед Богом… в верности супругу.
– Бог есть любовь. Бог поймет и простит.
– Не могу… не знаю… – вырвавшись, графиня устремилась на улицу.