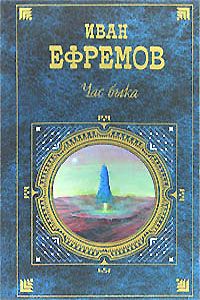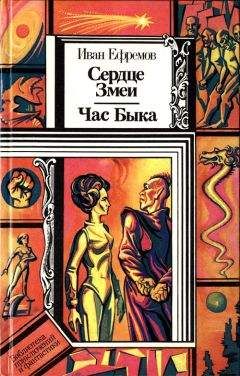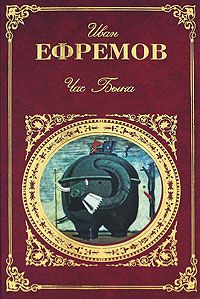Михаил Казовский - Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…
– Что же мы стоим? Проходите, располагайтесь. Я велю самовар поставить. Андрей Иваныч, окажи милость, приготовь чаю. – И уже гостям: – Где вы остановились?
Константин Петрович ответил:
– У моей сестрицы. То есть сама-то сестра в деревне, а в ее квартире проживают мои племянники, проходящие курс в университете. Девочек мы оставили с нянькой – и немедля к вам. Не сердитесь, что не известили запиской. Побоялись не застать дома. Завтра поутру отбываем в Новгород.
– Отчего так скоро?
– Кроме вас, в Петербурге дел более не имеем. – Федотов чуть замялся. – Свидеться хотели и забрать бумагу, ныне бесполезную.
Михаил удивился.
– Что за бумагу?
– Завещание мое, коли помните.
– Ах, ну да, ну да, безусловно, помню. Я сейчас найду.
– Да не к спеху, Михаил Юрьевич, мы ведь сразу не уйдем. Лучше расскажите о своей жизни. Слышали, что делаете успехи на литературном поприще. Бесконечно рады за вас.
Отставной подполковник слегка постарел и уже не казался таким суровым, как раньше; говоря об убитых на Кавказе товарищах, смахивал слезы. Катя выглядела веселой, щебетала непринужденно, с неизменной доверчивой улыбкой. «Да, она хороша, – думал Лермонтов, глядя на нее, – будоражит кровь. Хочется целовать и носить на руках. Катя – омут, бездна, пропасть, горная река. А Эмилия – сладкий лесной родник. Сказочная живая вода».
– Помните полковника Вревского из Агдама? – спросил Федотов. – Так его убили. И не горцы, заметьте, а наши. Видимо, довел всех своими зверствами. Получил пулю в спину при атаке неприятеля. Учинили следствие, но, конечно же, убийцу не обнаружили. Все молчали, как рыбы. Поделом поганцу. Впредь наука тем, кто горазд на подлости.
– А здоров ли доктор Фокс? – осведомился поэт.
– Чего не знаю, того не знаю. Больше не довелось увидеться. А молва мне не доносила.
Просидели гости часа четыре. Михаил, порывшись в своих бумагах, нашел завещание и отдал его Константину Петровичу со словами:
– Рад, что не пришлось пустить в дело.
– А уж я как рад! – улыбнулся тот.
На прощанье трижды поцеловались. Михаил приложился к ручке молодой мадам Федотовой. Она сказала:
– Я горжусь тем, что знакома с вами.
– Рад, что вы нашли свое счастье с Константином Петровичем. Я его очень уважаю.
Они пристально взглянули в глаза друг другу, силясь прочитать то, что не было сказано. Затем Катя опустила вуаль на шляпке. Вроде как занавес в театре: представление окончено, и пора по домам.
Лермонтов смотрел, как Андрей Иванович закрывает за гостями двери. Вздохнул, повернулся на каблуках. Бросил через плечо:
– Сделай одолжение, братец, вычисти мундир. Мне к семи к Валуевым.
4
Молодая чета Валуевых обитала по адресу: Петербург, Большая Морская, 27, доходный дом Лауферта. Раньше с ними жил и отец Маши – Петр Вяземский, но потом переехал на Литейный, 8, уступив все апартаменты дочери и зятю. Здание было в стиле барокко, с вычурным орнаментом поверх окон и декоративными полуколоннами, обрамлявшими невысокий балкон с ажурной решеткой.
В этот вечер из числа «шестнадцати» присутствовали четверо – сам Валуев, Серж Трубецкой, Лермонтов и Монго. А из дам с опозданием приехала только Додо Ростопчина. Михаил был рассеян, задумчиво пил шампанское. Обсуждали ситуацию на Кавказе и на Балканах, спорили о возможности большой войны с Турцией. Наконец бросили политику и стали слушать Ростопчину – та читала очерк о светских нравах, тонко полемизируя с повестью Соллогуба «Большой свет». Узнаваемые пассажи вызывали смех.
– Господа, правду ли болтают, что у Соллогуба особые отношения с великой княжной Марией Николаевной? – спросил Трубецкой.
– Ах, оставьте, Серж, что за глупости? – сказала мадам Валуева. – Володя ухаживает за Сонечкой Виельгорской и намерен жениться.
– Разве одно другому помеха? – отозвался Монго.
– Нет, Мария Николаевна не такая.
– Ах, ах, ах, «голубая кровь»! Это не мешает ее папаше соблазнять всех фрейлин императрицы.
– Серж, у вас личная обида на августейших особ.
– Может быть.
– Ваша Мусина-Пушкина пишет вам из-за границы?
При упоминании имени Мусиной-Пушкиной (номинальной супруги Трубецкого, навсегда уехавшей с дочкой за рубеж) Лермонтов почувствовал, как сжимается его сердце.
– Нет, с какой стати? Мы давно не общаемся. Я женился на ней по известным вам причинам, но реальным супругом никогда не был.
– Ну и зря, – вновь заговорил Монго. – Женщина красивая и незлая. Да, была фавориткой императора – и что с того? Дело прошлое. Женятся же на вдовах с детьми.
Трубецкой кивнул.
– Ты, конечно, прав, и с холодной головой я бы так и сделал. Но тогда все во мне кипело и протестовало. А теперь уж поздно.
– Отчего же поздно? Напиши ей письмо, поезжай, в конце концов.
– Нет, я слышал, у нее там теперь любовник.
– А, тогда понятно… Упустил ты свое счастье, бедолага.
В разговор вступила Маша Валуева.
– Отчего, вы, Мишель, за целый вечер не проронили ни слова? Уж не захворали ли?
Лермонтов поморщился.
– Да, отчасти: зуб болит.
– Ах, бедняжка! – с деланной заботой произнес Монго. – А не оттого ли зубик расшалился, что на вечер не приехала некая особа на букву М?
Все оживились. Михаил покраснел.
– Ты болтун, Столыпин, и тебе пора отрезать язык.
– Хорошо, что не голову.
Евдокия Ростопчина удивилась.
– Вы по-прежнему в нее влюблены?
– Да в кого же? – не вытерпел Валуев.
– Как, ты не знаешь? – повернулась к нему жена. – Мишель без ума от Милли.
– Что, действительно?
– Брось, не слушай этих зубоскалов, – огрызнулся поэт. – С Мусиной-Пушкиной мы друзья, не более.
– Только отчего-то ты всегда становился взволнован при ее появлении, – не сдавался Монго.
– Ты заметил? – улыбнулась Ростопчина.
– Это все заметили.
– Боже мой, что за люди! – Лермонтов демонстративно схватился за голову. – Сплетники, завистники. Стоит человеку пококетничать с дамой, сразу за его спиной: шу-шу-шу, он в нее влюблен!
– Значит, не влюблен? – осведомился Валуев.
– Совершенно. Я страдаю от неразделенной любви к мадам Хвостовой, кузине Додо.
(Евдокия Ростопчина, до замужества Сушкова, приходилась двоюродной сестрой Катерине Сушковой, вышедшей за Хвостова).
– Это он нарочно, – заметил Монго. – Для отвода глаз. А на самом деле никаких чувств к Кити давно не питает.
– Ты почем знаешь?
– Я тебя, племянничек, как облупленного знаю.
Неожиданно лакей доложил:
– Ее сиятельство графиня Мусина-Пушкина.
Трубецкой даже хлопнул в ладоши.
– На ловца и зверь бежит!
Лермонтов фыркнул.
– Я с тобой посчитаюсь, Серж, и за «ловца», и за «зверя»!
– Ой, ой, ой. А отчего мы вспыхнули, мсье любострастник?