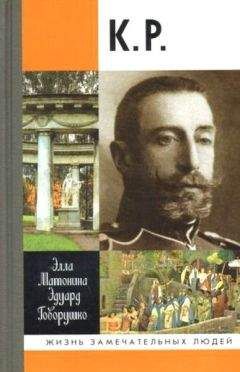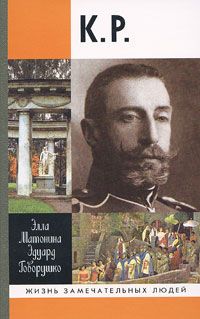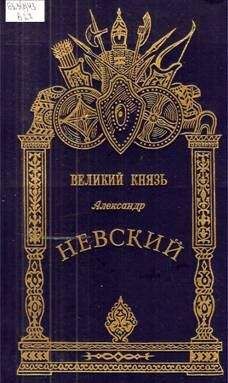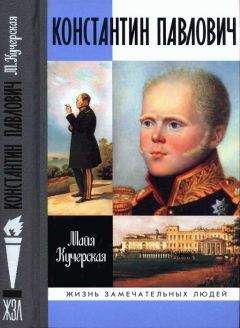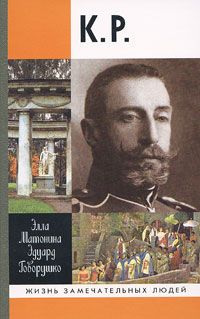Александр ХАРЬКОВСКИЙ - ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВШИЙ МИР
Был поздний вечер. Окончился рабочий день на соседнем заводе. Закрылись магазины. Обезлюдела обычно шумная улица Синдзюку. Вот и последний трамвай прозвенел вдали. Но Ерошенко не ложился спать: он чувствовал себя, словно путник у костра, которого подкарауливают невидимые в темноте шакалы, расположившиеся поодаль. Стоит только огню погаснуть – и тогда…
– Мне не хотелось бы сегодня быть одному, – сказал он госпоже Сома. – Можно я останусь с вами?
Госпожа Сома молча взяла его за руки. Они долго сидели рядом и разговаривали шепотом.
И вот в полночь с шумом и треском распахнулись ворота. Казалось, целый отряд полиции ворвался в дом. Прозвучала команда. Из тьмы появились решительные лица кэйдзи. Отец Сома вышел и стал в дверях:
– Кто позволил вам врываться ночью в мой дом. У вас есть на это разрешение? Где оно?
– Разрешения не требуется. Мы действуем по приказанию начальства, – ответил полицейский, – и пришли арестовать господина Ерошенко.
Кэйдзи разошлись по комнатам большого и запутанного, как лабиринт, дома. Грязными ботинками топтали они татами, поднимали детей, шумно, со скрипом раздвигали перегородки и, не находя Ерошенко, громко переговаривались:
– Здесь нет! И там тоже нет!
А один из полицейских топал ногами, оповещая:
– Идет полицейский в форме! Идет полицейский в форме!
Добравшись до комнатки на втором этаже и обнаружив там Ерошенко, полицейский рывком поднял его с дивана и заорал:
– Сам пойдешь или потащим?
– Сообщите свою фамилию, я подам на вас в суд (15), – сказала госпожа Сома. Полицейский даже не удостоил ее ответом.
В это время подоспел второй, кэйдзи, и, заломив Ерошенко руки за спину, они вывели его из комнаты. И тут слепой бросился вниз по лестнице, увлекая за собой и полицейских. Схватка продолжалась на первом этаже. Наконец Ерошенко вытащили за ворота.
Двое полицейских поволокли Ерошенко по брусчатой мостовой. Эгути Кан писал, что со слепым человеком обошлись хуже, чем с бродячей собакой: ведь даже собаку, которую собираются убить, швыряют сначала в тележку.
В полицейском участке слепого писателя избили. Кэйдзи раздирали ему веки, сомневаясь даже в том, что он слепой. "Пробудился ли стыд в их низких душах, когда они убедились, что он действительно слеп? Если бы они были людьми, то покончили бы с собой от стыда!" – с гневом и возмущением писал Эгути Кан в "Иомиури симбун" спустя несколько дней после этих событий.
Ерошенко бросили в холодную сырую камеру, полуодетого, без ботинок и носков. Шеф жандармов не позволил отпустить его домой за вещами. Тогда служащие магазина "Накамурая" принесли ему в тюрьму ботинки, плащ и трость. Одежду приняли, а вот еду взять отказались. "Мы кормим его так, чтобы он только не сдох", – ответили в полиции госпоже Сома.
Ерошенко пытался протестовать. Он заявил, что это произвол, его изгоняют из страны, лишив вещей и оставив без средств (16). На это начальник полицейского участка ответил:
– Человек вроде вас, господин Ерошенко, не может рассчитывать на иное отношение к себе властей Страны Восходящего Солнца.
Когда стала известна точная дата высылки Ерошенко, госпожа Сома еще раз попросила отпустить Ерошенко домой, чтобы он мог собрать и уложить вещи, но начальник резко ответил:
– Ничего, уложит вещи в полиции!
…Он сидел в углу камеры в изорванной толстовке, подпоясанной веревкой. Все его лицо было в синяках и кровоподтеках. Рядом лежали принесенные госпожой Сома вещи. Василий, ощупывая то одну, то другую вещь, говорил:
– Это отдайте Акита, это подарите Накамура, а вот это я возьму с собой в Россию.
Затем Ерошенко продиктовал госпоже Сома вступление к сборнику своих сочинений. В нем говорилось:
"Некоторые из моих читателей говорят, что мои сказки слишком серьезны для детей и несерьезны для взрослых. Кое-кто упрекает меня в том, что я, мол, использую искусство в целях саморекламы. Но я никогда не думал об известности, славе. Писать для меня так же естественно, как дышать. Жить для меня – главное искусство, ведь сама жизнь есть драма, и каждый человек исполняет свою роль на ее великой сцене.
Итак, главное – это жизнь. Все же остальное: речи, стихи, сказки – кажется мне лишь украшением жизни.
А теперь я хочу рассказать о том, что и как я писал. Работая над "Тесной клеткой", я обливался кровавыми слезами. Я плакал и смеялся, когда писал "Смерть Кенаря", ..Расточительность морского дракона". "На берегу", "Самоотверженную смерть безбожника", "Голову ученого". В "Кораблике счастья" и в "Сосенке" я рассказал о своей страдальческой жизни и о человеке, которого любил. "Горе рыбки" и "Сердце Орла" написаны о страданиях художника.
Я с улыбкой писал "Сон в весеннюю ночь", "Грушевое дерево", "Божество Кибоси". Когда я говорю об улыбке, то нужно помнить, что она у меня получалась вымученной: в этом повинна обстановка в Японии.
Работая над сказками "Цветок Справедливости", "Во имя человечества" и "Две смерти", я макал кисточку не в тушь, а в свою кровь.
Друзья отмечали, что мой смех, моя улыбка всегда были грустными, а критика пороков общества – несерьезной и недостаточно глубокой. Возможно, это и так, но мои страдания за человечество, за Японию, за моих японских друзей, которых я очень люблю, – все это, поверьте, у меня всерьез. Я еще не знаю, куда я поеду из этой страны. Но где бы я ни был, моя любовь к людям, мое сострадание оскорбленным и униженным – все это навсегда останется в моем сердце".
Госпожа Сома опускала кисть в тушечницу и с грустью думала о том, что она по-настоящему так и не поняла своего Эро-сана, для нее он был всего лишь милым наивным ребенком. Только теперь она поняла, какой это мужественный человек. А Ерошенко продолжал:
– Я хочу завещать все авторские права на мои книги ей. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю. Ерошенко не хотел, чтобы имя Итико прозвучало в этих ненавистных стенах.
Сома составила завещание. Василий подписал. – Эро-сан, – сказала она, взглянув на его ноги. – Как вы поедете в Россию в таких изодранных ботинках? Разрешите, я завтра принесу вам сапоги.
Ерошенко покачал головой, словно сомневаясь, а будет ли оно вообще это завтра.
– Свидание окончено! Свидание окончено! – голос полицейского звучал, как испорченная, застрявшая на одной фразе пластинка.
Ерошенко прижал к лицу руку госпожи Сома, затем опустился перед ней в традиционном поклоне. Ему показалось, что он видит, как низко кланяется в ответ госпожа Сома.
Ей все же удалось упросить сапожника сшить для Ерошенко за одну ночь большие, наверно, 45 размера, сапоги. Но когда на следующее утро она передавала их дежурному, из ворот выехал закрытый автомобиль, в котором перевозили обычно арестантов. "Он, он, – забилось тревожно ее сердце. – Не может быть, – тотчас успокоила она себя, – иначе зачем они согласились взять сапоги?"