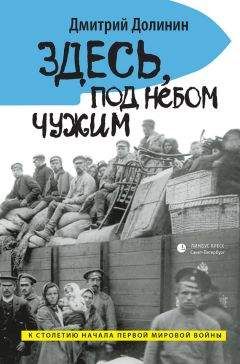Александр Воронель - Избранные статьи
Мы, группа личных друзей Даниэля и Синяв-ского, тем более, не знали, чего можно ожидать от новых властей. С одной стороны нам слишком ясно помнились недавние сталинские времена и мы вполне допускали, что наших друзей могут уничтожить. По сталинским нормам, мы могли ожидать и для всего нашего круга сходной судьбы. Но, с другой стороны нам казалось не исключенным, что вослед за бывшей оттепелью, власти как-нибудь символически их осудят, но к былым своим драконовским мерам не вернутся. Особенно, в случае международной огласки.
Поэтому мы старались сделать все возможное, чтобы приостановить суд или смягчить возможный будущий приговор. Мы писали заявления в судебные инстанции, напрашивались в свидетели защиты (покойный Толя Якобсон и я), ходили на прием к Верховному судье (Э.Любошиц, И.Голомшток, Н.Кишилов и я). Мы требовали выпустить их на поруки, готовили материалы (и собирали деньги) для адвокатов и т.д. и т.п.
Когда уже стало ясно, что суда не миновать, мы решили, по крайней мере, запротоколировать этот процесс - мы уже начинали предвосхищать его историческое значение. Процесс шел, еще как обычно, за закрытой дверью. Публику тщательно подбирали. Но все же какие-то либеральные флюиды витали в воздухе.
Раньше гражданское противодействие официальным инстанциям рассматривалось как абсолютно немыслимое. Мы с профессором Эмилем Любошицем напросились на прием к председателю Верховного Суда РСФСР А.Смирнову с нашим заявлением о непременном желании присутствовать на суде. Судья Смирнов не отказал нам с порога, а вступил в обсуждение, заявив, что не видит зачем, собственно, нам присутствовать. Мы нагло объяснили, что якобы после доклада Хрущева на ХХ съезде партии мы уже не можем полностью доверять суду, который, как мы знаем из этого доклада, слишком часто поддавался давлению со стороны безответственной бюрократии. Смирнов, конечно, выглядел рассерженным и энергично отрицал такую опасность, но вел себя достаточно корректно и не вызвал конвой, чтобы немедленно отвести нас на Лубянку. Также и Игорь Голомшток, отказавшись отвечать на провоцирующие вопросы суда, не был стерт в порошок, а отделался сравнительно мягким приговором даже без изгнания с работы. Диктатура еще не пошатнулась, но в ее фундаменте расплылась паутина микроскопических трещин, наводивших на размышления не только отдельных, "инакомыслящих" граждан, но, возможно, и некоторых ответственных людей в правящей элите. Появление после ареста писателей десятков открытых писем протестного содержания также не вызвало немедленных репрессий, неминуемых в недавние до-оттепельные времена.
Технократически настроенная верхушка советской интеллигенции была совершенно захвачена обсуждением многозначительных деталей и возможных политических последствий этого дела, так что, по словам профессора Марка Азбеля, в течение нескольких месяцев весь их рабочий день до отказа был заполнен непривычно откровенными разговорами.
В зал суда допустили только жен обвиняемых. У дверей здания суда регулярно собиралась небольшая толпа не допущенных внутрь взволнованных болельщиков, которая, однако, росла с каждым днем
В духе различного поведения самих обвиняемых
(и их жен) более узкая группа, следовавшая за Андреем, протестовала только против эстетических стеснений, а группа, мысленно выбравшая в свои герои Юлия, замахивалась уже и на протест в какой-то мере политический. Это вызвало конфликт и жестокую ссору, которые в причудливом сочетании с чисто женскими мотивами разделил потом двух жен обвиняемых на несколько лет. Игорь Голомшток и я с двух разных сторон безуспешно старались смягчить эту неразумную вражду.
Лариса Богораз-Даниэль добросовестно запротоколировала весь процесс, и этот протокол впоследствии был опубликован за границей.
Мы загодя закупили десятки записных книжек, и каждый день в перерывах между заседаниями один из нас троих, профессор Азбель, профессор Любошиц или я (мне приходится здесь отмечать эти звания, потому что в здание суда пропускали только эту тройку по книжкам, удостоверявшим наш высокий академический статус) поджидал ее в дамском туалете, чтобы забрать исписанный блокнот и вручить новый, дабы исключить предвидимую возможность отобрать у Ларисы все записи разом.
Лариса весь процесс (много часов - утром и вечером) работала как машина - она записала все до мельчайших подробностей. Это была потрясающая, самоотверженная работа!..
Потом, вечером, она приходила к нам домой на Хлебный переулок и все пересказывала. У нее был такой эмоциональный подъем, что она до полуночи рассказывала о деталях процесса людям, которые вплотную, один на другом, сидели и стояли в нашей тесной комнате коммунальной квартиры на диване, на полу, на столе, на подоконнике и жадно впивали каждое слово. Наш узкий кружок, конечно, знал, что квартира прослушивается, но уж таковы были необратимые последствия "оттепели" - мы все ни за что не хотели расстаться с той, хотя бы и призрачной, свободой слова, которая самочинно установилась в последние годы правления Хрущева: уже ведь несколько лет за разговоры, за стихи, за песни не сажали!
Я не был настолько самонадеян, чтобы думать, что нам удается полностью обмануть КГБ. Я думаю, что по какой-то причине они не стремились сохранить полную герметичность этого процесса, а заботились лишь о своем внешнем облике непреклонной организации. В самый разгар процесса (на третий день) в западной прессе появилась (якобы из подпольных источников) фотография скамьи подсудимых с лицами обвиняемых, однако явно заснятая со стороны суда. Конечно никто из членов Верховного Суда РСФСР не был скрытым диссидентом. Но власти в такой форме хотели, по-видимому, продемонстрировать Западу некоторую степень открытости
Все эти дни Нина Воронель вместе с Леонидом Невлером по ночам расшифровывали и переписывали начисто Ларисыны записки, а Майя Синявская затем передавала их Александру Гинзбургу для отправки за рубеж.
Как только эти записи были опубликованы в Париже, Гинзбурга арестовали. Но власти не вменили ему в вину этот протокол, имевший слишком широкий отклик на Западе, а осудили за невинный, чисто литературный сборник "Феникс", давно циркулировавший в московском Самиздате.
В самом начале следствия, почти сразу после ареста, Майя, как ни странно (до того таких прецедентов не было), получила свидание с Андреем, и была, как мне показалось, искренне поражена его поведением. Он по ее словам не только во всем признавался, но и как бы даже слишком охотно сотрудничал со следователем, что вовсе не вязалось ни с предварительным договором с друзьями, ни с его неоткровенным и достаточно сильным характером. "Он прямо влюбился в этого следователя Потапова - несколько ошеломленно рассказывала мне Майя, - всячески идет ему навстречу и зачем-то рассказывает, где, что и у кого прятал...".