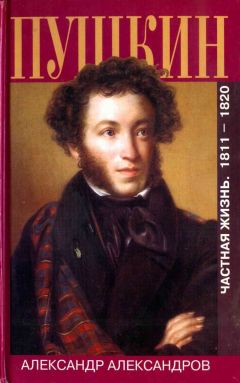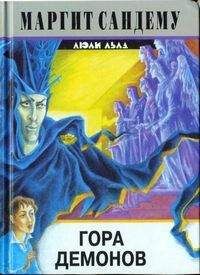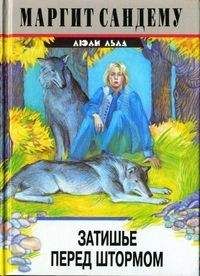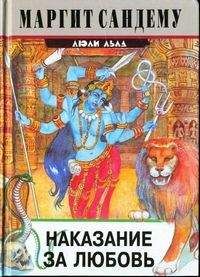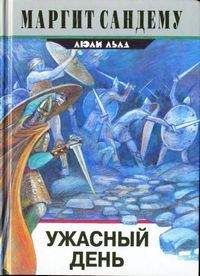Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Привычным смешком воспитанники поддержали старую шутку. Карцова любили, потому что был он человек не злой, никого не мучил, ерничал поверхностно, не доводя человека, был крайне снисходителен, отчасти из-за доброты, отчасти из понимания, что большинству из них его математика совсем не нужна.
Некоторые читали, кто-то уже рисовал, кто-то готовился к другим предметам, но почти все решительно не обращали внимания на Карцова и не слушали, что он там такое говорит. Его, впрочем, это совершенно не смущало. Он был ровен, спокоен, чуть ироничен.
— Но с Вольховским господином мы займемся потом, это у нас святое, посмотрим, кто еще сегодня, так… Бакунин господин, Дельвиг господин, Горчаков господин, а вот, пожалуй, Пушкин господин, перепишите-ка на доске вот эту задачку. — Он подал Пушкину, который вышел из-за стола и приблизился к нему, свою рабочую тетрадь и постучал пальцем по указанной задачке. — И заодно решите-ка нам ее!
Пушкин своим быстрым, летящим почерком, который у него устоялся с младых ногтей, набросал на доске алгебраическую формулу с «иксом», потом стоял, размышляя и переминаясь с ноги на ногу, пока Карцов, терпеливо, с усмешкой наблюдавший за ним, не спросил:
— Ну, что же вышло? Чему у вас равняется икс, Пушкин господин?
— Нулю, — улыбаясь, ответил Пушкин и быстро написал в ответе «ноль».
— Хорошо, — сказал Карцов, также приятно улыбаясь в ответ. — У вас, Пушкин господин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на место и пишите стихи. У вас это лучше получается. Скажите по совести, ведь в давешней песенке про Гауеншильда есть и ваша рука?
Пушкин пожал плечами: мол, понимайте как знаете. Карцов погрозил ему пальцем.
За ужином инспектор Пилецкий спросил воспитанников:
— Ну, господа лицейские, у кого штрафной билет по немецкому языку?
Но никто из воспитанников не ответил и не поднялся с места. Корф быстро взглянул в сторону Пушкина, тот демонстративно отвернулся, однако это не укрылось от Пилецкого.
— Господин Корф, позвольте узнать, кому вы передали штрафной билет?
Корф замялся, потом неожиданно вспомнил, даже обрадовавшись:
— Я передал штрафной билет воспитаннику Комовскому.
— Так, — продолжал Пилецкий. — А вы кому?
Комовский не медлил ни минуты.
— А я — Пушкину!
— Это так, господин Пушкин? — спросил Пилецкий.
Пушкин нехотя встал.
— Так-то оно так…
— И вы в свою очередь кому-нибудь его передали?
— Нет…
— Почему? Неужели все вокруг говорили только по-немецки?
— Я забыл про него. Вот он! — Пушкин небрежно бросил картонку на стол.
— Значит, вы говорили сегодня по-русски?
— Да отчего же, иногда и по-французски… — усмехнулся Пушкин ему прямо в лицо.
Несколько человек хохотнули.
— Ну что ж, господин Пушкин, вы говорили не на языке, для сегодняшнего дня означенном, поэтому извольте занять последнее место за столом.
— Извольте, — согласился Пушкин и стал пробираться к концу стола. — Только избавьте меня от обязанности доносить на своих товарищей.
— Вот мы и снова вместе! — хлопнул его по плечу рыжеволосый Данзас. — Садись.
— Здесь, в конце, — улыбнулся Пушкин, — всегда собирается самое приятное общество. Только здесь я чувствую себя дома. Господа, — наклонившись к столу, прошептал он, — есть одна замечательная поэма, полученная по оказии от князя Вяземского. Смею вас заверить, что вы ее не слышали.
— Как называется? Как называется?
— «Тень Баркова»…
— Баркова? Что-то знакомое.
— Слушай, Медведь, и мотай на ус, — прошептал Пушкин.
Однажды зимним вечерком
В борделе на Мещанской
Сошлись с расстригою попом
Поэт, корнет уланской,
Московский модный молодец,
Подъячий из Сената,
Да третьей гильдии купец,
Да пьяных два солдата.
Всяк пуншу осушил бокал,
Лег с блядью молодою
И на постели откачал
Горячею елдою.
Кто всех задорнее ебет?
Чей хуй средь битвы рьяной
Пизду курчавую дерет,
Горя, как столб румяный?
О землемер и пизд, и жоп,
Блядун трудолюбивый!
Хвала тебе, расстрига поп,
Приапа жрец ретивый!
В четвертый раз ты плешь впустил
И снова щель раздвинул,
В четвертый принял, вколотил…
И хуй повисший вынул!
— Ну ты и матерщинник, Француз, — выдохнул в восхищении Данзас.
— Не мешай! — оборвал его маленький Броглио и, кося глазом, попросил Пушкина: — Давай дальше. Страсть люблю про хуи.
Потом, уже в закутке, среди избранной публики, он читал поэму еще раз. Друзья заучивали наизусть строфы. Только через несколько дней, видя, какой успех имеет поэма, он признался Пущину, что написал ее сам.
— Лучше бы, чтобы об этом никто не узнал. За такую штучку можно загреметь в солдаты али куда похуже.
— Куда же? На Соловки? — рассмеялся Пушкин. — А если в солдаты, так я хоть сейчас готов, как братья Раевские.
— Не храбрись, ты и сам знаешь, как это опасно, иначе не скрывал бы авторство. Про князя Вяземского только больше никому не говори, — посоветовал Пущин. — Нехорошо получается, если сочинил сам, а говоришь на князя. — У Жанно всегда было обостренное чувство справедливости.
— Не буду, — согласился Пушкин. — Я не подумал.
— А поэму давай между собой как-нибудь по-другому называть. Ну, допустим… — Он задумался.
— «Тень Кораблева», — подсказал Пушкин и рассмеялся: — Фрегатова, Лодкина, Баркасова… Как хочешь!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,
В лицейской зале за ширмами красного дерева с вышитыми китайскими драконами, которые лицейские дядьки позаимствовали у дворцовой челяди, была выгорожена импровизированная сцена.
Среди избранной царскосельской публики, приглашенной на первый спектакль, который давали лицеисты, находилась мать лицеиста Саши Бакунина с дочерью Екатериной. В зале собрались и многие профессора, педагоги и лицеисты, не занятые в спектакле. Публика занимала несколько рядов стульев, стоявших полукругом перед сценой.
Алексей Николаевич Иконников, душа, сочинитель и творец действа, был явно навеселе; говорил он спотыкаясь, с кашей во рту, но в глазах сверкал огонь творца. Хотя он и переделал свою пьесу из афишки графа Федора Ростопчина, московского генерал-губернатора, которые тот вывешивал в Москве для народа, а потом они разлетались по всей России, в душе он считал ее своей. Он то и дело поправлял на ребятах серые фуражки, присаживаясь перед ними на корточки.