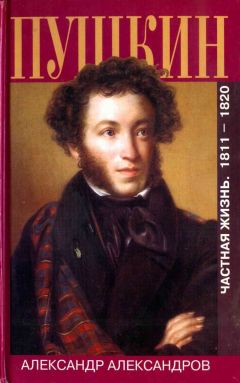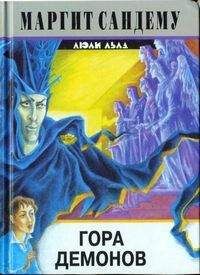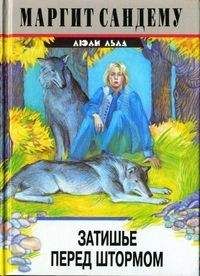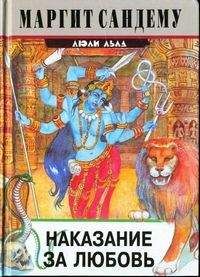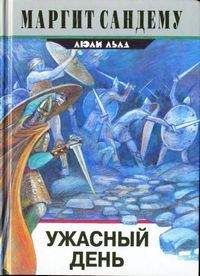Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
В коридоре к строю подходили последние лицеисты. Гувернер Илья Пилецкий кончал счет воспитанникам:
— Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять… Ну-с, кого нету?
После некоторого молчания, пока сонные воспитанники оглядывались на стоящих рядом с ними, кто-то наконец произнес:
— Обезьяны…
— С тигром… — добавил еще кто-то.
— Двоих? — удивился Илья Пилецкий, сметливостью не отличавшийся.
Несколько человек осторожно засмеялись.
— Одного, — сказал Пущин. — Но за двоих.
Илья Пилецкий появился в дверях дортуара за спиной у Пушкина.
— Вам особое приглашение, господин Пушкин?
Пилецкий сделал два шага и протянул руку к листку со стихами:
— Дайте-ка сюда!
— Пошел вон! — закричал Пушкин, взвизгнув высоким мальчишеским дискантом.
— Я пожалуюсь господину надзирателю! — напирал Илья Степанович, пытаясь заглянуть в листок.
— Иди, жалуйся своему братцу пастырю, я никого не боюсь!
— Мартын Степанович может поставить вопрос перед директором…
— А хоть перед самим Господом Богом!
— Богохульствуете, для вас это может плохо кончиться…
Пушкин смолчал на это, и Пилецкий процедил ему сквозь зубы:
— Идите в залу на молитву!
И первым вышел.
Пушкин не спеша разорвал листок бумаги на мелкие клочки, открыл форточку, выбросил обрывки на улицу и только тогда пошел следом за гувернером. Он изменил сегодня своему правилу писать стихи про Ебакова в уме и чуть не поплатился за это.
Сонные, чуть покачиваясь, стояли в зале лицеисты. На этот раз молитву читал Модинька Корф, делал он это с явным удовольствием. Лисичка Комовский, почитавший Корфа самым большим своим другом, шептал, повторяя за ним слова молитвы. Он, как и Корф, был набожен.
— От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троица, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащего воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мыс-ленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети Заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Все лицеисты перекрестились и поклонились.
— Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Снова поклон и крестное знамение.
— Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. — воодушевленно закончил Модинька Корф.
Лицеисты в последний раз перекрестились и поклонились.
Лисичка после молитвы был так счастлив, что ему хотелось расцеловать всех на свете.
В учебном классе перед началом занятий надзиратель Мартын Степанович объявил:
— Господа лицейские! Сегодня у вас первые два часа профессор Гауеншильд, немецкий язык, поэтому я вам напоминаю, что сегодняшний день все должны говорить во всякое время токмо по-немецки. Билет для нарушителя вручаю сегодня воспитаннику Корфу, как лучшему в немецком языке. Он передаст билет первому же, кто будет замечен в том, что говорит по-русски, или по-французски, или еще на каком языке, для сегодняшнего дня не означенном.
Корф взял билет из рук Пилецкого и окинул всех гордым взглядом.
Мартын Степанович вышел, оставив их в классе, а к Корфу радостно подбежал Лисичка Комовский и сказал:
— Модинька, я так счастлив, после сей молитвы…
— Я тоже… — ответил по-немецки Корф. — Только теперь я должен передать тебе штрафной билет! Впредь говори по-немецки, как назначил на сегодняшний день господин надзиратель.
Комовский погрустнел, но тут своим диким смехом захохотал рядом с ним Пушкин.
— Давай его, Лисичка, сюда! — протянул руку за билетом Пушкин, говоря по-русски. — И не грусти!
Миша Яковлев, по прозвищу «Паяс двести номеров», стоял возле кафедры в учебном классе и дирижировал импровизированным хором воспитанников. Гауеншильд задерживался, и по сему случаю перед классом исполнялась посвященная ему и другим педагогам лицейская песня.
Воспитанники, взобравшись на стоящие полукругом скамейки, самозабвенно распевали собственные стихи на голос песни «Певец во стане русских воинов», песни весьма популярной во время кампании двенадцатого года:
В лицейской зале тишина —
Диковинка меж нами, —
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.
Друзья, сберемтеся гурьбой —
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку.
И кто последний в классе врет,
Не зная век урока,
«Победа!» первый заорет,
На немца грянув с бока.
Но кто немецких бредней том
Покроет вечной пылью?
Пилецкий, пастырь душ с крестом,
Иконников с бутылью,
С жидовской мордой эконом,
Наш Эйлер знаменитый;
Зернов с проломленным носом,
С бородкою небритой.
С очками лысый Соколов
И Гакен криворотый
Докажут силу кулаков, —
И немца за вороты.
Когда все еще пели, в класс вошел незамеченным математик Яков Иванович Карцов и по окончании песни восторженно захлопал. Воспитанники бросились со скамеек за столы, Яковлев шмыгнул было за кафедру, однако, поняв, что Карцов его все равно заметил, решил не прятаться, а спокойно прошел на свою место, на ходу с достоинством поклонившись педагогу.
— Похвально, господа! — сказал Карцов. — И смешно. Так и видишь надутого индюка или рождественского гуся. Надобно, конечно, соблюдать субординацию по отношению к педагогам, но… ведь смешно. Какая может быть субординация в сатире?! — Он рассмеялся. — А теперь должен сообщить вам два известия: приятное для вас и неприятное. Какое желаете прежде?
— Приятное! — завопили все в один голос.
— Профессор Гауеншильд сегодня заболел!
— Ура-а! — Кто-то снова попытался вспрыгнуть на скамейку, но его одернули товарищи.
— И второе: пренеприятное! Меня попросили занять вас математикой, предметом, который большинству из вас ненавистен!
Бурной реакции на его слова не последовало. Кто-то сразу раскрыл постороннюю книгу.
— Я, конечно, исключаю Вольховского господина из общего числа, — продолжал Карцов, — потому что он один из вас по-настоящему знает, что преподается. А для всех остальных А плюс В равно красному барану! — сказал он свою дежурную остроту.