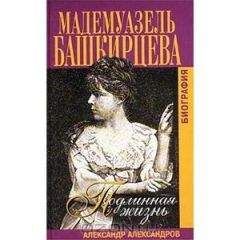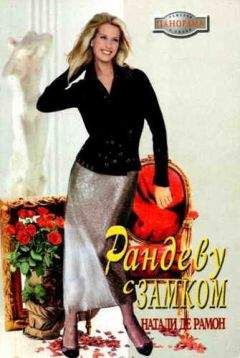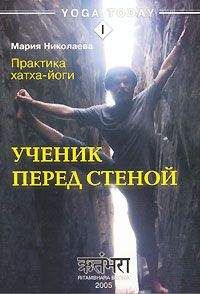Александр Александров - Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой
Через некоторое время они уже смеются, вспоминая о происшествии, и шутят, что Поль, верно, ловит теперь своей удочкой рыбу.
— Бедные часы! — восклицает Башкирцева.
Так жить больше не хочется, но тут прибывает заказанный ею у Биндера экипаж, которым она рассчитывает потрясти общество.
Две девушки в белом экипаже, запряженным двумя маленькими белыми пони, с верхом из имитации итальянской соломки выезжают, на Promenade des Anglais в Ницце. Их путь лежит на скачки, куда собирается все общество Ниццы. Муся с Диной думают, что они производят впечатление, однако реакция общества следует незамедлительно. В газете, в светском обзоре на следующий день, они читают, что их приняли за двух дам «из очень приятного мира», то есть за обыкновенных кокоток. «Они были одеты в белое, ну, прямо пирожное с кремом!». Их кареты, их одеяния слишком красивы, чтобы их можно было принять за честных девушек.
Муся в бешенстве, она нанимает адвоката, но тот советует молчать, обещая уладить дело. Журналист соглашается внести поправку, он ручается за честь девушек, но продолжает издеваться над экипажем. Традиционный стиль журналистики вплоть до нашего времени. Через несколько дней в Ницце появляется второй такой же экипаж, в котором действительно разъезжают кокотки. Вполне понятно, что Башкирцеву замечают, раз над ней издеваются.
Впору топить в море вторые часы. Или снова уехать в Рим, в Неаполь, куда угодно, лишь быть не торчать в постылой Ницце, где о ней все известно и, главное, не забыта ее история с Одиффре.
Они с матерью и кузиной покидают Ниццу. 8 февраля 1877 года останавливаются в Риме только для пересадки, а 9-го утром они уже в Неаполе, где их ждет карнавал. Но странная история, два месяца в дневнике, который обыкновенно ведется очень подробно, практически выпущены. Оставлены две-три малозначительные записи. Одна из них от 31 марта, как всегда о страдании: «Умереть… Боже мой! Умереть! Довольно с меня! Умереть тихой смертью с прекрасной арией Верди на устах…»
Два месяца в новом городе, несколько слов о нем. «Как я смела судить о Неаполе в прошлом году? Разве я его видела!» Два месяца с новыми людьми — о них ни слова. Два месяца почти полного пропуска в записях… и вдруг: умереть! Как раздражают ее частые возгласы, мольбы, заклинания, вопли! На самом же деле, их меньше, они так выпирают в теперешнем тексте, потому что сокращена, выброшена живая жизнь, в результате которой и раздаются эти восклицания. Публикаторы уверенно делают из даровитой юной писательницы завзятую графоманку, человека, начисто лишенного художественного чутья и живого ощущения жизни.
А она сомневается, мучается над своими ежедневными записями. Подчеркиваю, ежедневными.
«Если бы я писала с перерывами, может быть, я могла бы… но эти ежедневные заметки заинтересуют разве какого-нибудь мыслителя, какого-нибудь глубокого наблюдателя человеческой природы… Тот, у кого не хватит терпения прочесть все, не прочтет ничего и ничего не поймет. (Подчеркнуто мной — авт.)» (Запись от 16 мая 1877 года.)
А что же все-таки было в эти два месяца? Ответ прост — был граф Александр Лардерель. Помните, тот молодой распутник, уже встреченный ею однажды в Неаполе? Сын французского графа и итальянской княжны, родственник Боргезе и Альдобрандини, через свою сестру и свойственник короля Виктора-Эммануила II, постоянный герой светской хроники, развратник и пьяница. Куда же он делся? А туда же, куда и все остальные. Канул в Лету. Ее маме эта история, как и многие другие, не нравится. Сначала, понимаете ли, нравилась, когда хотела дочь выдать замуж, а потом, когда все закончилась фиаско, нравиться перестала. К тому же образ разрушает, ангела с пьедестала низводит.
Но странная штука история, извлекает многих из небытия, казалось бы навсегда похороненных.
На следующий день после приезда, мадам Башкирцева, ее дочь и Дина, облачившись в черные накидки с капюшонами, в черных масках, скрывающих лицо, отправляются на карнавал, ради которого они и прибыли в Неаполь. На каретах никуда не проехать, можно пройти только пешком. По улицам могут двигаться только украшенные колесницы. Крики, возгласы, вопли, переходящие в какой-то единообразный вой. От шума закладывает уши.
— Это что? — интересуется Мария у проводника, знакомого еще по прежнему приезду аристократа Альматуру.
— Да ничего, это неаполитанский народ.
— И всегда так бывает?
— Всегда.
В этот день бросают coriandoli. Это итальянское слово в дореволюционном издании ошибочно переведено, как конфекты с известью или с мукой. Конфектами назывались в то время конфеты. Хороши же конфеты с известью! На самом деле coriandoli — это конфетти, мелкие разноцветные шарики на муке или извести, которые бросают в толпу. «Кто не видел, тот не может себе представить эти тысячи протянутых рук, черных и худых, эти лохмотья, эти великолепные колесницы, эти движущиеся руки, эти пальцы, беглости которых позавидовал бы сам Лист». (Запись от 11 февраля 1877 года.)
На карнавалах и празднествах в те времена и до окончания 19 века происходили баталии конфетти и серпантина. Пришедшие из Италии и Испании, подобные праздники постепенно захватывают всю Европу. Вот как описывает русский художник Александр Бенуа Mardi Gras (масленичный карнавал — франц.) 1897 года в Париже в своей книге «Мои воспоминания»:
«Основой же программы фестиваля была баталия конфетти и серпантинов. То и другое с тех пор утратило всякую прелесть и превратилось в нечто избитое… но тогда это было ново, и самая эта новизна, отвечая расположению парижан всецело отдаваться всякой забаве, превращая толпу в массу каких-то одержимых и бесноватых. Описать все это трудно, но достаточно будет указать на то, что к четырем часам все бульвары, включая бульвар де Севастополь, были до того густо засыпаны пестрыми бумажками, что по ним ходили, как по сплошному мягкому, густому ковру. И ковер этот покрывал не только тротуары, но и срединное шоссе, по которому движение экипажей было на несколько часов прервано. В свою очередь и деревья были сплошь опутаны и оплетены бумажными лентами-змейками, местами перекинутыми с одной стороны улицы на другую, образуя своего рода сень, что одно придавало парижскому пейзажу какой-то ирреальный вид.
Я наслаждался чрезвычайно, но мое наслаждение было ничтожным в сравнении с тем боевым упоением, которое овладевало моей женой: я просто не узнавал ее, я никогда не предполагал, что в ней может проснуться такая якобы «вакхическая» ярость. Целыми фунтами покупали мы у разносчиков мешки с цветными конфетти, но не успевала моя Атя получить такой мешок на руки, как он уже оказывался пустым, и приходилось покупать новый. Есть что-то соблазнительное в том, чтобы сразиться с людьми, совершенно незнакомыми, и «влепить им в физиономию» целую охапку таких бумажек, да еще норовить, чтобы они попали им в рот».