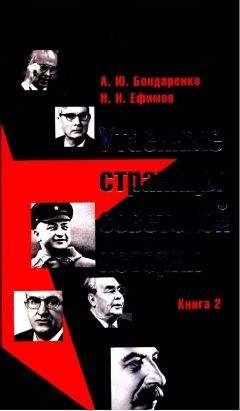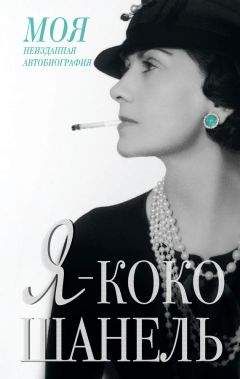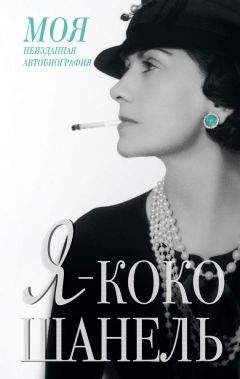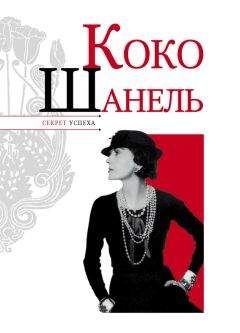Марсель Эдрих - Загадочная Коко Шанель
— Она сошла с ума, она любит кюре.
Реверди жил у монахов и вел почти тот же образ жизни, что и они. Обращенный, как Кокто, Морис Саш и некоторые другие, в неотомизм[173] под влиянием Жака Маритэна[174] и его жены. С Клоделем[175] заговорил Господь, когда он стоял около одной из колонн Нотр-Дам, к которой теперь совершают паломничество клоделианцы. Я знаю по опыту, что достаточно пройтись с Евангелием в кармане, чтобы заинтересовать людей, как правило богатых, озабоченных тем, что будет с ними в потустороннем мире. Как оказаться с праведниками? Эта проблема возникает, если иногда осознаешь, что нельзя взять с собой туда то, что дает такую уверенность здесь. Коко говорила:
«Чистилище начинается, когда говоришь себе, что придется все оставить здесь».
Она не была единственной, на кого Реверди производил сильное впечатление. Его товарищей по литературе звали Аполлинер[176], Сандрар и Макс Жакоб[177]. Он познакомился с Андрэ Сальмоном[178] на «Бато Лавуар»[179], где встречался с Пикассо, Браком[180], Хуаном Грисом[181]. Все они (за исключением Хуана Гриса, умершего слишком молодым, чтобы узнать о своем успехе) стали знаменитыми и богатыми. Он же, Реверди, жил на небольшую ренту, которую выплачивал ему один издатель[182].
— Если бы вы писали ваши поэмы на отдельных листах и подписывали их, как ваши друзья-художники подписывают свои картины, — заметила Коко, — стоило только снобам ими заинтересоваться (а она уж все сделала бы для этого!), вы стали бы так же богаты, как они.
Что на это ответить? В тридцать лет Реверди все еще зарабатывал на жизнь как корректор в «л'Энтран». Однажды ночью, выходя из наборной под моросящим дождем, он поскользнулся на мостовой и сильно ранил колено о край тротуара. Товарищ, который был с ним, услышал, как Реверди вздохнул с горечью:
— Господи, сделай так, чтобы я оставался непризнанным поэтом.
То, что художники, которых он ценил, признавали в нем гения, конечно, утешало и подбадривало, но не мешало страдать от бедности, и она, эта бедность, определяла резкость его суждений. Он был строгим критиком. В Солеме, в своем монастырском уединении[183], был в курсе всех слухов, всего, что происходило в Париже, и в своих беседах обнаруживал живость и блеск хроникера, напоминавшие Кристиана Берара, купавшегося в сплетнях. Териад, журналист, ставший издателем, опубликовал поэмы Реверди с иллюстрациями Пикассо: одни скелеты красного цвета разной интенсивности. Теперь эту книгу разыскивают библиофилы, и она очень дорого стоит. Если бы Реверди там, в потустороннем мире, узнал об этом, он бы горько усмехнулся.
У него были очень красивые зубы. Повеса-хулиган — вот каким он остался в памяти леди Эбди.
Она решительно утверждала, что Коко безумно его любила. Если бы они поженились, то были бы счастливы, считала она. Но женился бы Реверди на Мадемуазель Шанель, будь он свободен?[184] Не уверен. Это означало бы пойти на риск, последствия которого непредсказуемы.
Небезынтересно сравнить письма Реверди к Мизии (она их опубликовала в своих воспоминаниях) с письмами, какие он посылал Коко. «…Я так вас люблю, — писал он Мизии. — Думаю о вас с такой нежностью. Вы принадлежите к тем, кого я люблю до боли. По вас тоскуют мои руки, губы, мое сердце. Вы часть моей жизни. Здесь в тишине, которую некоторые назвали бы мертвой (лишь чириканье птиц и пение монахов), я слушаю Бога и люблю моих друзей возвышенной любовью. Вы стали орудием Бога, позволившим мне жить жизнью, полной нежности и любви, и другая для меня уже невозможна. Или умереть, иссушить себя, или жить одним светом. Было бы ужасно, Мизия, покинуть мир с иссушенным сердцем — восхитительно и весело уйти из него от избытка любви».
Тон меняется, когда он пишет Коко. Я держу в руках множество писем, написанных ей Реверди во время последней войны.
В письмах Мизии небо голубое, птицы чирикают, монахи поют. Их пишет счастливый и беспечный человек. Читая письма к Коко, невольно вспоминаешь Дягилева, который, если верить Лифарю, боялся ее. «Я скоро приеду повидать вас, — отвечает Реверди на телеграмму, в которой Коко требует его приезда. — Но не останусь надолго». Он пишет о том, как ему покойно в Солеме. «Я нуждаюсь в этом одиночестве. Настало время изменить жизнь, если я не хочу окончательно презирать себя. Бежать за удовольствием все равно, что бежать за ветром. Начинаешь задыхаться, и не остается ничего, кроме мучительной горечи».
Все, что Реверди пишет Коко, значительно, серьезно и отмечено желанием оправдаться. Все два месяца, проведенные в Солеме, он не перестает работать, подготавливая новый том. Размышляет, ищет: он хотел бы вновь обрести веру, чтобы по-настоящему уйти в монастырь.
«Я слишком долго разрешал жить во мне, — писал он, — этой поэзии, которая хочет только искать удовольствия».
Как это далеко от непринужденности, с какой Реверди писал Мизии. В письмах к Коко он объясняется, оправдывается, отчитывается. Это похоже на письма к матери, которая волнуется и которую надо успокоить, даже несколько преувеличивая, чтобы она знала, что, вопреки видимости, он не теряет времени; он пишет и делает успехи.
Можно было подумать, что Реверди и Коко побаивались друг друга, если бы в ней не было тех же черт повесы-сорванца, которые поразили леди Абди в Реверди. Очевидно, следует подробнее остановиться на этом слове[185]. Для Коко, как и для ее поэта, «повеса-сорванец» включало в себя находчивость, живость ума, остроумие, быстроту реакции, решительное нежелание дать провести себя напыщенным буржуа; плюс к этому особый шарм, что-то от обольстительного канальи. Слишком много для одного слова. Сближало их и то, что их предки были простолюдинами. Нельзя утверждать, что в Мадемуазель Шанель сохранилась хотя бы малейшая частичка девочки из народа. Тем не менее она узнавала свое детство в детстве Реверди, так как беззастенчиво присваивала его. Открыла ли она Реверди хоть долю правды о себе? Или кому-нибудь из других мужчин, с которыми была близка? Никогда, и это упорное молчание было ее безусловной женской слабостью. Можно любить женщину без прошлого, гораздо труднее жить с ней.
Реверди писал письма во всю ширину листа, иногда по пятнадцать слов в строчке, особенно когда он посылал ей свои несколько менторские комментарии по поводу «Мыслей» Лабрюйера или соображения о ремесле писателя.
«Произведения сильны и серьезны, только если они выношены в голове, но божественными их делает лишь сердце. И в то же время беда, если в них слишком мало головы и слишком много сердца».