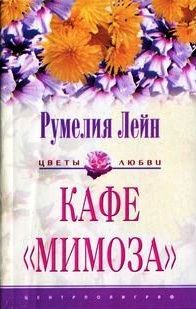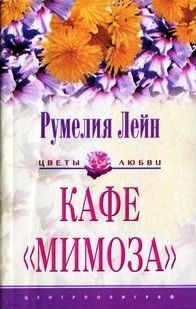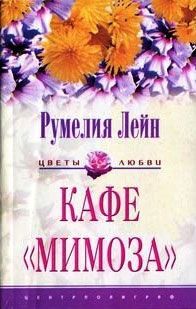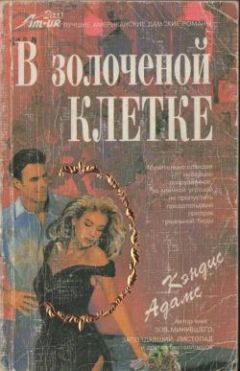Виктор Розов - Удивление перед жизнью
Смотрим мы ту несусветную дрянь, которую стыдится смотреть кассирша, минут тридцать и выкатываемся на улицу. На улице куда интереснее.
Свернули на какой‑то ближайший стрит. Батюшки! Шпалерами стоят дамы всех возрастов, оттенков, объемов. Официально проституция в США запрещена, но только официально. В Сан- Франциско мы жили в отеле в самом центре города. Вечером по правую и по левую сторону от дверей отеля, подпирая стены домов, вереницей стояли ночные дивы.
В Гамбурге двое моих друзей именно на распроклятом Репер- бане отважно решили зайти в сомнительный дом. Конечно, только посмотреть, тем более что зазывала выкрикивал: «За вход только три марки! Войдите, очень интересно, всего три марки!» Вошли. Подлетели дяди, сняли пальто, провели к столику.
— Нет, нет, мы ничего не хотим, — залепетали перепуганные друзья — авантюристы.
— Что вы, что вы, это просто так, рюмочка коньячку.
— Ну, черт с ними, выпьем по рюмочке — и до дому, до хаты. Добавим еще по три — четыре марки…
Выпили по рюмочке, так, из вежливости.
— Хозяйка, дайте счет.
— Пожалуйста. Сто марок.
— Как сто?!
— Вот так. Это вам не публичная библиотека.
— У нас таких денег нет.
Лицо хозяйки делается эсэсовски зловещим, и рядом появляются двое громил. Души моих авантюристов уходят в пятки.
— А сколько у вас есть? — вопрошает владелица заведения.
— Пя — пя — пятьдесят, — лепечут бывшие смельчаки.
— Давайте! — презрительно роняет дама.
Один из несчастных лезет в карман, достает бумажник и — о разиня, о простофиля! — вытягивая пятидесятимарковую бумажку, не умеет скрыть от ястребиного взора хозяйки и другие деньги.
— А это что? — в справедливом гневе кричит атаманша и своими жирными перстами с ловкостью фокусника выхватывает из бумажника еще сто марок, а затем еще и еще. — Вон, обманщики! — кричит фурия.
Несчастные два друга, «…проклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратились бег». Нет, графу Нулину было только стыдно, а тут и жутко.
Лежу в мягкой чистой постели. Вертятся в глазах огни, мелькают возбужденные лица, хлопают ружья в тире, гудит голова. Нервы натянуты, напряжение не ослабевает, мотор не может сбросить обороты. Глотаю димедрол и постепенно уплываю в сон. Но ненадолго. Пробуждаюсь в темноте. Отчего — не могу понять. Смутно осознаю — я в Нью — Йорке, в гостинице «Уолдорф — Астория», самом знаменитом отеле мира, где останавливаются премьер — министры и короли, как гласит реклама фирмы. Сон отлетает напрочь, в голове полная ясность. Все мускулы мобилизованы.
Встав с постели на пушистый нейлоновый ковер, иду к окнам. Они закрыты наглухо. При кондиционированном устройстве их открывать не надо. Гляжу на улицу. Глаза мои видят только каменные дома — великаны. Приседаю на корточки, заглядываю через стекло вверх, стараясь увидеть небо, но его нет, только верхние этажи зданий светятся белым светом, и я понимаю, что на небе плывет полная луна. Гляжу вниз. Мостовой не видно. Встаю на цыпочки, заглядываю туда, в пропасть. Нет, до дна не дотянуться..
Если бы кто‑то вошел в номер, подумал бы — это сумасшедший притаился у окна. Босой, нечесаный, полуголый.
Да и у меня самого чувство вора или соглядатая: хочу подсмотреть ночной мир этого чужого и необычного для меня города. Вслушиваюсь в тишину.
Нет, тишины не слышно. Что‑то и где‑то все время вибрирует глухо, напряженно. Все живет. Только притаилось.
Это не сон города, это его забытье.
Но и эта тяжелая дрема была непостоянной. Ее вдруг прорезал апокалиптический вой — истошный, безумный вой сирены полицейского автомобиля. Он возникал издали, со скоростью урагана мчался на меня, и я испытывал почти такой же мистический и животный страх, как когда‑то в сарае в Ветлуге, когда на нас со стены мчался неведомо откуда возникший поезд. Звук проносился мимо, но казалось— автомобиль чудом не переехал тебя.
Становилось тихо. И снова «спящей ночи трепетанье». Нет, не трепетанье, а глухие подземные толчки вулканического происхождения. Динозавр пыхтел во сне. Как могут, думал я, американцы переносить этот истерический вопль в ночи? Какие надо иметь нервы! Или не иметь их совсем. Услыхав этот вопль, можно самому закричать от ужаса.
Я долго стоял в темной комнате и ушами, и кожей, всем телом чувствовал ночной Нью — Йорк, стараясь понять его.
Какое поразительное напряжение, как все туго натянуто! До предела, уж больше нельзя, дальше должно лопнуть. Но выхода нет, надо натягивать тросы. Так развивается страна, и в этом движении вперед Америка тянет за собой весь мир. Что делать, побеждает сильнейший.
Опять на меня летит ураган истерического звука. Пережидаю. Мимо. Интересно, что там случилось? Грабеж, убийство? Или это везут деньги в банк, которые, я слышал, возят в бронированных машинах с полицией и этим устрашающим ревом? Везут золотого тельца. Этот рев — фанфары в его честь. Увы, не то просто могут ограбить.
Звук уплыл, и опять тишина. «Спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня…» Могу стоять вот так во тьме и слушать до утра. Тоже интересно.
Но завтра программа, и снова бешеная скачка по музеям, театрам, коктейли, приемы, встречи и просто улицы. Иду к постели. Вторая порция димедрола.
В Америке на каждого человека в год приходится, наверное, по одной тонне снотворного. Я это понимаю. Скоро нужны будут мощные приборы для погружения человека в сон.
Утром вскакиваю бодрый, азартный. Скорее в душ!
Нью — Йорк — это город, составленный из множества городов. Негритянские кварталы — город, итальянские — город, китайские — город, Рокфеллер — центр — город, Бронкс — город. И надписи, и вывески — на своем языке. И говор, и обычаи, и привычки — свои. И своя честь, и своя гордость, и свои язвы. Подобное не только в Нью — Йорке. Так и в Сан — Франциско, и даже в Бостоне — городе английского типа, университетском городе — я пил кофе с каким‑то фиолетовым сладчайшим пирожным в итальянском квартале, где смуглая молодежь стайками стояла по углам, почтенные матроны сидели на ступеньках и перемывали косточки своим ближним, в кафе мужчины дулись в карты, и надо всем плыла нежная, пленительная итальянская речь. Привези меня сюда с завязанными глазами, развяжи, спроси, где я, — скажу: в Трестевере, людном и шумном районе Рима, расположенном на другом берегу Тибра, этакое Затибрие, вроде нашего старого Замоскворечья.
«Уолдорф — Астория» — тоже город. Внешне она, конечно, слегка устарела. Снаружи терпимо: небоскреб, махина с двумя башнями по бокам. Но внутри, в вестибюле, много излишней лепки, каких‑то колонн, закоулков, портиков и прочих прибежищ для пыли. В этом смысле «Шаритон — Линкольн» в Хьюстоне — свежая девушка восемнадцати лет. Однако из постаревшего вестибюля «Уолдорф — Астории» не хочется уходить. Тут весь мир разом. Все национальности, расы, вероисповедания. А в банкетных залах с утра до утра кипит своя жизнь — днем всяческие съезды, конгрессы, митинги, собрания. Притулюсь я, бывало, у стенки этого огромного вестибюля, гляжу, как из зала, откуда доносятся то крики, то пение псалмов, то хохот, то рев, смотря по тому, кто там заседает, выкатываются толпы разодетых дам или мужчин со значками на груди — признаком принадлежности к той или иной группе, размахивают руками, спорят, несут в вестибюль еще не остывший жар собрания. Помню, заседали в одном из залов какие‑то монашки. Я думал, это будет нечто елейно — благоговейнопостное, а оказалось — самое веселое дамское общество. Стоял такой громкий хохот, такой счастливый гвалт, какого я, право, давненько не слыхивал, только разве в английском парламенте, куда меня однажды занесло на заседание палаты представителей, где выступали премьер — министр Гарольд Вильсон, министр иностранных дел Стюарт, министр здравоохранения и другие.