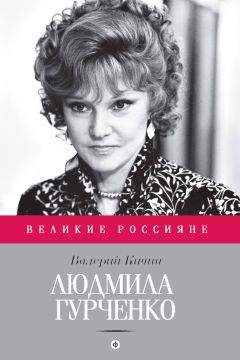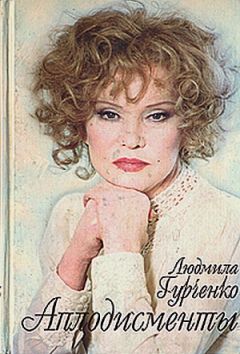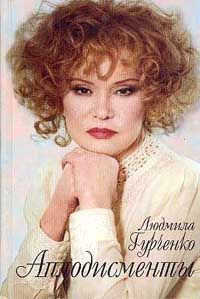Валерий Кичин - Людмила Гурченко
Вспомним опять признание Гурченко по поводу «Сибириады»: мы не играли, а пели, диалог — это дуэт, пение, а не разговор…
А вот еще одна роль, которую она «спела». Валентина Барабанова из «Семейной мелодрамы». Одна из картин, где впервые вошла в ее творчество и заняла в нем такое большое место тема душевного одиночества. Беспощадная, почти исповедальная искренность, с какой актриса потом провела эту тему через множество своих ролей, открывает нам нечто личное в жизни самой Гурченко — потом с той же мерой искренности она напишет об этом в своей книге. И тогда мы увидим в фильме подробности, пришедшие на экран из ее харьковского детства. В комнате, где живет Валентина, узнаем комнату тети Вали' — украшенную портретами кинозвезд, салфеточками, какими-то перьями и веерами. Точно так же, как Вали', мурлыкает Валентина мелодии «Большого вальса»— а уж начав мурлыкать, заводится с пол-оборота и вот уже кружится вихрем по комнате, ловко обходя тесно поставленную мебель, и поет пронзительным голосом, подражая Карле Доннер. Так же светски смеется, морща носик, и так же все время словно видит себя со стороны, чуть работает на публику. В Валентине умирает актриса.
Впрочем, почему умирает? Она — актриса. Пусть судьба так сложилась, что ей приходится работать в парикмахерской — все равно в душе она актриса.
— У меня хор, — сообщает она, торопясь. И с достоинством непризнанной звезды жалуется — Наша прима теряет голос, текст забывает. А мне соло не доверяют…
У нее растет сын, трудный ребенок. Талантливый, в нее. Но потому и трудный. Стихи пишет, к отцу норовит убежать постоянно. Отец подонок. Бросил семью, ушел к Марине, теперь она кормит его своими пирогами и салатами, как будто в этом счастье.
Вали-Валентина чувствует себя неудачницей, и это сознание уже успело так глубоко въесться в нее, что определяет теперь все ее поведение дома и на людях.
На людях — «влыбайсь и дуй свое!». Она надевает шляпку-котелок очень лихо, приблизительно так, как Карла Доннер свою огромную, с полями. Она идет легкой походкой мимо мужчин, играющих во дворе в домино, и одаряет их великодушной улыбкой: «Гуляю!»
Дома — молчаливо всматривается в свое блекнущее отражение в зеркале. Пропадает женщина.
«Я хочу петь!» сказано, как «Я хочу жить!». Рассматривает себя, мычит тихонько любимый мотив. Сердце в груди бьется, как птица, а впрочем, кто об этом знает, кому это нужно! Машет безнадежно рукой.
Искусству готова отдать себя без остатка. Сидит в маленьком, заклеенном плакатами жэковском зальчике среди грустных пенсионеров, ревниво слушает солистку, ту, что «теряет голос». С энтузиазмом подхватывает припев:
«Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем…»
А тут, на сцене, приколачивают плакат, стучат молотками, нарушают святость минуты, а это уязвляет ее в самое сердце. «Ну как же так можно!» Выбегает, рыдая от возмущения, из зала.
Ее экзальтированность смешна. Но мы не смеемся. Актриса в самых забавных ситуациях не дает умолкнуть второй, подспудной, но для нее — главной, самой важной мелодии. Сломленность человека. Одиночеством. Безнадежностью. Сознанием несбывшегося, несостоявшегося.
Ее Валентина Барабанова напоминает утопающего, одиноко барахтающегося в воде. Все пытается вынырнуть, но уж теряет силы, да и не понимает уже — зачем это ей, выныривать. Пытается — больше по инерции.
Даже ее надежды — это, скорее, только воспоминание о надеждах. В фильм тут входят песни — популярные, безоблачные мелодии 50-х годов, все эти «Джонни», «Тишина», бесчисленные «Золотые симфонии», «Большие вальсы»… И каждый раз, заслышав их звуки, Валентина Барабанова встрепенется душой, заиграет в ней каждый нерв, она запоет-замурлычет и покажется в этот миг беззаботной, пока взгляд ее не упадет на зеркало, пока не вернется к ней реальность.
Она ходит по комнате, как зверь по клетке. Она уже не понимает, что ей тут делать, дома. Не живет — ждет. А чего, собственно?
Лежит на ковре, перебирает старые фото, письма. И снова та давняя песня звучит — в душе? в сердце?
Нет — в памяти. Это она сама поет, давно-давно. В парке. И все ее слушают, целая толпа. Огни сверкают, и он в толпе, с огромным букетом черемухи.
«Мы вдвоем, поздний час,
Входит в комнату молчание…».
Воспоминание непереносимо. Валентина хватается за сердце. Лицо помятое, старое, в пятнах. Бродит со стаканом воды, ищет лекарство. А в памяти гремит:
«Счастье мое! Мы с тобой неразлучны вдвоем…»
«Радость моя! Это молодость песни поет…»
Все там, в молодости. Так пусть поет свои песни. Если выпить лекарства очень много, все кончится.
— Валя, ты что?
— Падаю, милый, падаю…
Гурченко словно бы создала эту роль из песен. И спела ее, как поют романс, пусть душещипательный, пусть «роковой», но каждый услышит в нем близкие себе мотивы и потому примет его сердцем. А это здесь — самое важное.
Спела, однако, без надрыва. Скорее — сурово, беспощадно и к героине и к самой себе. Мужественно. Трезво. Иронично. Это и уберегло «Семейную мелодраму» от дурного мелодраматизма, сообщило ей уже совсем не свойственную романсу эмоциональную многослойность трагикомедии. И вновь в том, как движется образ, как формируется, какими путями входит в нашу душу, — есть нечто глубоко индивидуальное, свойственное именно этой актрисе, и только ей. Есть своя особая система условностей, сближающая ее художественное мышление с музыкальным, заставляющая и ее и нас прибегать к этим витиеватым и подозрительно красивым формулировкам: «спела диалог», «фильм-романс» — хоть и с большой долей приблизительности, но без доли натяжки.
Эту систему условностей Гурченко знает, ценит, любит, лучше многих видит ее возможности и поэтому стремится внедрить ее в каждый фильм, где снимается.
Иногда это обходится ценой конфликтов. Режиссер не хочет принимать эту игру, порой просто ее не понимает.
Актриса — понимает и не хочет уступать, знает ее особую силу воздействия, ее глубину. Оба свято верят в свою правоту. И оба, наверное, правы. Просто разные «группы крови».
И оба не правы. Победа в искусстве дается единством усилий и устремлений, а вовсе не противоборством тех, кто должен быть союзниками.
Многие фильмы Гурченко хранят следы такого противоборства.
«Любимая женщина механика Гаврилова». Те, кто видел эту картину, помнят, что главный ее персонаж, предмет надежд героини, механик Гаврилов, появляется на экране только в самом финале. До того Рита много говорит о нем, о неистовой силе его любви, и Гаврилов этот потихоньку обрастает в нашем воображении ореолом романтического героя. В режиссерской разработке сценария Гаврилова вывозили в инвалидной коляске, с гипсовой ногой, с перебинтованной рукой, из которой торчал букетик цветов. Эта комическая фигура должна была разрядить сгустившуюся атмосферу всеобщего ожидания и даже заставить нас улыбнуться по поводу этих неистовых женских фантазий.