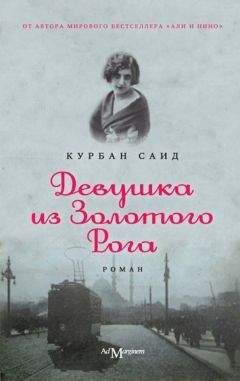Владислав Бахревский - Никон
— Хороша, — согласился Илья Данилович не очень уверенно, не понимая, куда государь клонит.
— Это же знамя! «Конь бел и седяй на нем». Вели вышить. Да чтоб большое было, чтоб издалека видели… — Дал икону, внимательно поглядев на Илью Даниловича. — Ты ведь у нас ездил в Голландию?
— И в Турцию, и в Голландию! — ответил Илья Данилович, удивляясь загадочности царя.
— Ну, ступай в приказ. Я тоже вскоре буду.
4На приказном дворе собрались офицеры и солдаты иноземного строя, подьячие и всякая мелкая служка.
Илья Данилович устроился на крыльце, на красном стуле. Сидел, однако, ерзая. Нет-нет да и косился на крайнее окошко во втором этаже.
Первым свое искусство явил голландский капитан Фанкеркховен. Ему предложили оружие: три разных мушкета, два из которых были заряжены, а третий нужно было зарядить, солдатскую и капитанскую пики, шпагу. Фанкеркховен взял сначала солдатскую пику и показал все приемы нападения и защиты, потом подошел к мушкету, зарядил, прицелился в чучело, да так удачно, что перебил пулей палку, на которой держалась голова. Голова отлетела. Капитан подошел к двум другим мушкетам, пальнул и пробил чучелу грудь, приговаривая:
— Это ему будут пуговицы.
Взяв в руки шпагу, капитан посек ею воздух вокруг себя, поцеловал клинок и предложил офицерам, с одобрением смотревшим экзамен:
— Господа, прошу оказать мне честь. Я покажу господину Милославскому некоторые приемы.
Вышел капитан Траурнихт.
Милославский заволновался:
— Вы глядите не проткните друг друга!
— Будьте спокойны!
Траурнихт поклонился боярину и тотчас изготовился к поединку.
Шпаги скрестились, затрещали, засверкали.
— Довольно! Довольно, бога ради! — закричал Илья Данилович. — Добре, капитан!
Выдержавшего испытание окружили офицеры, поздравляя и восхищаясь его точной стрельбой, его искусством фехтовать.
Второй испытуемый, пожелавший служить в чине поручика, ничем не блеснул и был оценен Ильей Даниловичем как «середний».
— Я — Альберт фон Ветхен, претендую на чин полковника, — объявил третий. — Война — ремесло моих предков.
Он так ловко поклонился, что Милославский от удовольствия по животу себя погладил.
Молодец был голубоглаз, статен, ловок.
— Главное в командире — порода. Разве солдаты пойдут в бой за человеком маленького роста? Солдаты пойдут за тем, кого видно издали.
— Лепо! Лепо! — похвалил молодца Милославский. — Ступай теперь к оружию. Покажись.
— Как это — покажись? — не понял Альберт фон Ветхен.
— Покажи, как стреляешь, как шпагой колешь, как пикой управляешься.
Последовал поклон. Быстро, уверенно испытуемый подошел к оружию, взял капитанскую пику, подумал, взял в другую руку пику солдатскую. Потом поставил ту и другую на место, потрогал пальцем края наконечников.
— Очень плохо заточено.
— Ничего! — крикнул Милославский. — Они ведь не для убийства, для показа.
Альберт фон Ветхен снова взял обе пики и бегом кинулся по двору, топая для устрашения сапогами. Пробежав этак целый круг, он метнул пику с правой руки, метнул с левой. С левой получилось неловко, пика дрыгнула, треснула концом метателя по голове и упала к его ногам.
Офицеры, когда Альберт фон Ветхен бросился бегом по двору, ожидали увидеть какой-то новый, неведомый им стиль боя. Теперь они дружно хохотали, видя перед собой самозванца, решившего хорошо заработать в дремучей, ни в чем толком не разбирающейся матушке-России.
Смех не смутил наглеца, а только раззадорил. Он решительно подошел к заряженным мушкетам. Мушкеты стояли на опоре. Альберт фон Ветхен по-козлиному попрыгал вокруг них, приложился и, продолжая скакать, словно его пчелы в пятки жалили, пальнул, крепко зажмурив глаза. Приклад вырвался из рук, двинул беднягу по зубам, и тот грохнулся наземь.
— Конча-а-а-юсь! — раздался истошный вопль в толпе.
Пуля пробила мякоть плеча подьячего и задела стоявшего за ним солдата-немца, прожгла ему платье.
Подьячий от боли и ужаса повалился на снег, царь, глядя на это, всплеснул руками. Милославский за голову схватился, но зато пришел в себя Альберт фон Ветхен.
Он проворно подбежал к раненому, отвел в приказ, раздел, достал из своего ящика какие-то пузырьки, обработал рану, остановил кровь, перевязал.
Тут наконец начальство опомнилось и взяло Альберта фон Ветхена, претендовавшего на чин полковника, на допрос.
Допрос был легкий, без колесования, боярин Милославский спешил ответ перед государем держать. Умный Альберт отпираться не стал, признался, что военному делу не обучен, но зато в ремесле цирюльника ему ведомы все тонкости. Нижайше кланяясь, он просил дать ему возможность продемонстрировать свое мастерство и спасти себя.
Отважный Фанкеркховен первым сел под бритву Альберта.
Испытание продолжалось, а Милославский поспешил на Верх к царю.
Царь, увидев перепуганное лицо боярина, засмеялся. У Ильи Даниловича от сердца отлегло, он промчался по комнате, изображая Альберта с копьями, и царь хохотал до слез, а потом стал грустным.
Посидел, глядя в окно, повздыхал и сказал Илье Даниловичу:
— Я тебя давеча спрашивал, ездил ли ты в Голландию…
— Ездил, государь!
— Вот и славно. Вдругорядь ехать привычней. Наберешь офицеров, да лучших! Смотри! Человек двадцать наберешь, чтоб было у кого учиться, чтоб многие из наших ихнее ратное дело знали.
— А с этим что делать, с фоном? Показал он, что худ добре в военном деле. Правда, кровь ловко остановил. Говорит, что обучен ремеслу цирюльника.
— Себе возьми, пригодится, — сказал царь равнодушно.
Когда Милославский вернулся в комнату, где в поте лица трудился Альберт, офицеры были бриты, стрижены, и усы у них торчали как пики.
— Мы бьем тебе, всемилостивому боярину, челом, — от имени всех обратился к Илье Даниловичу полковник Данила Краферт. — Мы просим оставить в приказе Альберта фон Ветхена — цирюльником с окладом прапорщика.
Илья Данилович двумя пальчиками потрогал пикообразный ус Краферта и, засмеявшись, махнул рукой:
— Шут с ним, пущай служит!
5К боярину Борису Ивановичу Морозову государь приехал по-свойски, с одним Федором Ртищевым. Федор свой человек, лишнего слова не скажет и даже взглядом не обнаружит себя.
— Здоров ли? — спрашивал царь, ласково всматриваясь в лицо своего воспитателя. — Уж небось две недели у меня не был. Или, упаси господи и прости, может, я ненароком обидел тебя, отец мой?
У старика от царской заботы слезы на глаза навернулись. Кинулся к Алексею Михайловичу, обнял, к груди прижал. А потом слезы вытер, сел и глаза опустил тихо-тихо.