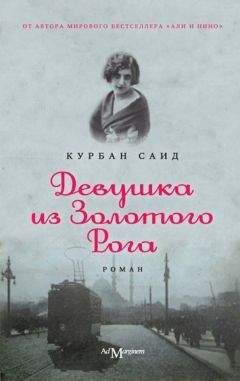Владислав Бахревский - Никон
Перебирал в памяти дни, годы, людей, но все это заслоняла жена, соблазнительный образ ее. Перепугал однажды бедную. Было дело, выпил, распалился бесовским огнем и в баню к ней влез. Сам горел и жену привел в неистовство. Забыв о Боге, три дня кряду Сатане служили.
И как пришел он в себя, ужаснулся ада, вселившегося в сердце его. Покаялся тотчас и положил завет перед святыми иконами: сорвать жизнь свою с плодоносящего древа, спрятать в черное, недоступное соблазну, ради света души.
Жену поколотить пришлось, и не раз, отучая от себя. Не хотела в монахини, к нему рвалась.
Оттого и сгинул в океане, на Анзерском острове.
И вот! Столько лет минуло, а та ночь в бане, самая пагубная его ночь, до последней, до самой стыдной малости перед глазами, живее живой, и в висках бухает.
Открыл глаза в лунном свете тень на стене как женское крутое бедро. Закрыл глаза — высокая белая грудь жены и сосок в пупырышках, как ягода ежевика.
Встал с постели. Тотчас поднялся и Киприан.
— Дай вина! — попросил Никон. — Целый ковш дай!
Выхлебал сладкое заморское пойло, покосился на соблазнительную тень на стене, усмехнулся:
— Ужо мне!
Лег.
Подумалось: «Великих патриархов без великих государей не бывает. Ох, царек! За уши тебя придется тянуть в великие. Да ведь и вытащу! Как не вытащить собинного друга».
Поглядел на стену без страха — экое седалище. И опять усмехнулся:
— Ужо мне!
И заснул. С младенчества не спал так сладко. Пробудился от радости. Встал — снег за окном, первый за зиму снег.
— Выспался? — спросил Киприан.
— Выспался.
— Ну, так одевайся! К тебе царевна приехала.
— Какая?
— Татьяна Михайловна.
Никон проворно подскочил к умывальнику.
— Одежу достань лучшую. Гребень, гребень! Расчеши-ка мне волосы, как кудель, спутались.
Вошла царевна, и было видно — не дышит. Щеки пылают, но огонь благороднейший, не свекольный, как у девок, — румяный и словно бы в инее. О глазах иначе и не скажешь — звезды. И такой в них щемящий душу вопрос, что и Никон дышать перестал.
— У нас с ночи натоплено, — сказал царевне неучтивый мужик Киприан, но сказал то, что нужно. Царевна кортель соболью скинула, и у Никона под коленями липко стало, руки — словно кур воровал.
Весна и весна! И не дуновением ветра или лучом неосязаемым, а сама плоть. Сама плоть весны! Ожерелье — стоячий воротник, алмазами горит, вместо пуговиц по платью дюжина сапфиров, платье тяжелое, шито золотом и жемчугом, но ни блеск, ни тяжесть не укрыли молодого, радостного тела.
Это ведь только утро жизни царевны, каков же тогда полдень будет!
— О святой отец! — прошептала Татьяна Михайловна. — Спаси меня, ночи не сплю! И сегодня глаз не сомкнула. — Упала на колени. — Спаси!
Никон подошел к девушке, взял ее за плечи и почувствовал — дрожит.
Дикими глазами зыркнул на Киприана. Келейник выскочил тотчас за дверь. И Никон, словно во сне, трепеща, как сама царевна, простонал:
— Молись! Молись, несчастная!
Слезы, как весенняя капель, выступали из-под плотно сжатых ресниц царевны и катились, катились…
«Боже мой! — подумал Никон. — Есть ли на Руси женщины более несчастные, чем царевны — вечные старые девы…»
Когда царевна ушла, Никон открыл изголовник и достал памятную книжицу. Против имени царевны было у него записано: «5 января 7144 года». Меньше чем через месяц Татьяне Михайловне исполнялось семнадцать лет.
Глава 6
Ложась спать, Аввакум сказал Анастасии Марковне:
— Ну, голубушка, завтра за собором пойду! Что же это за протопоп без собора?
Анастасия Марковна отозвалась не сразу.
— Поди, — сказала. — К самому, чай?
— Марковна! Да ты вспомни, далеко ли наше Григорово от его Вальдеманова? Перебрать всех, кто кому сват да кум, — небось еще и родня.
Анастасия Марковна молчала.
— Что раздумалась-то?
— Ох, Петрович! Уж очень большой он теперь человек.
— Да я его, как тебя, видел. Через стол не дотянуться было, а то облобызались бы.
— Ты с царем тоже лобызался.
— Потому и протопоп!
— Не потому, Петрович. Хорошие люди помогли — Неронов да Стефан Вонифатьевич. А Никон, сам говорил, морду от них теперь воротит. Ты вспомни, кого в патриархи царя просил!
— Просил Стефана, но сердцем желал Никона: кто-кто, а Никон наведет порядок. У него все эти попы Кирики, как мыши, запищат!
— Порядок нужен, — согласилась Анастасия Марковна, — разбаловался народ. До того все разбаловались, сами себя не почитают.
— То-то и оно! Голубушка, такие, как я, патриарху Никону очень даже нужны. Я ведь к нему сразу-то не полез в друзья… А теперь самое время поклониться. Никон за устройство церкви крепко взялся. Монастырь на Валдайском озере строит. Говорят, чудо света будет.
— Дай Бог! — поддакнула Анастасия Марковна. — Братья твои все на местах. Евфимий хоть и псаломщиком, но зато в церкви большой царевны Татьяны Михайловны. Многие попы с ним бы поменялись.
— Ладно, — сказал Аввакум. — Нас тоже Бог не оставит.
Утром он отправился на Новгородское подворье. Шагал широко, на людей поглядывал смело и строго. Увидел толпу, подошел.
Патриаршие стрельцы, поддавая кулаками в бока, тащили пьяного попа.
— Навуходоносоры! — вопил поп, и людям было жалко его.
— Молчи! — крикнул пьянчуге Аввакум. — Не позорь священства!
— Ох! Ох! — чистосердечно сокрушалась толпа. — Не одолеть нам, грешным, вина! Никак его не одолеть!
«Молодец!» — думал о Никоне Аввакум, шагая еще решительнее и тверже.
На подворье ему сказали, что патриарх переехал в Кремль.
Патриарший двор хоть еще и строился, но часть комнат была уже готова. Аввакум, может, с месяц всего и не был в Кремле, но сразу понял — что-то не так. И, только подойдя к Патриаршим палатам, сообразил — исчезла церковь Соловецких чудотворцев. Тут и екнуло в груди. Сколько Никон на Соловках-то жил! А церкви соловецкой не пожалел…
Перед дверьми стайкой промерзших воробьев поскакивали с ноги на ногу людишки. Оказалось, это прибыли на утверждение сельские попы. Таков был новый порядок: всякий поп, получая место, должен благословиться у самого патриарха.
— А что же вы на морозе-то?! — удивился Аввакум.
— Не пускают в сени, — ответили попы.
А один молоденький сказал:
— Я уж тут целый месяц стою. Никак очередь не дойдет.
— Никону про все эти дела надо донесть, разини! — Аввакум решительно распахнул дверь.
Тотчас к нему вышел монах. Глаза без цвета, лицо никакое.
— Ты зван патриархом? — спросил Аввакума.