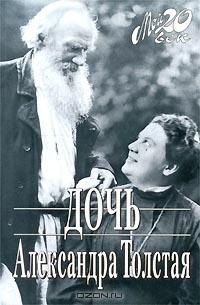Александра Толстая - ДОЧЬ
— А вы смеялись, помните, когда вас ночью с вещами потребовали?
— Oh! Mon Dieu[50] — ниет, не смеял, а плакайть, плакайть. Я думал, меня стрелять!
— Да, жуткое было время, — начала Петровская, — то и дело на расстрел выводили. Пришли за ней ночью, велят собирать вещи. С ней истерика — плачет, хохочет. Вдруг упала на колени: «Доктор, — кричит, — молитесь на моя грешная душа». Я с ней с ума было сошла. А утром привели.
— Куда же водили?
— На допрос.
— Нарочно пугают, — сказала девица с томными глазами, — своего рода пытка. Запугивают, думают, что человек больше расскажет.
— Oh! Ma pauvre mere, mon pauvre Henri. Us ne sauront jamais ce que j'ai souffert[51].
— Жених у нее во Франции, — продолжала докторша, — а обвиняют ее в шпионстве. Сошлась с каким–то негодяем…
— Mais поп, docteur! [52]Меня принимайт за шпион, се monsieur меня спасайт. Я его не любил, се monsieur, oh, non. Henri comprendraca[53]. Я пошел с ним только по благодар–ству.
— Не поймешь их. Слушаю их разговоры целый месяц. А кто за что арестован, ничего не могу понять, — и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнее.
— Ах, я вам все расскажу, — нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачным перегаром, — подходил Юденич. В Петербурге во главе организации стоял англичанин, красавец собой, смелый… Я была готова пожертвовать жизнью…
Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила, как заученный урок, как будто она много раз повторяла свою историю.
Хотелось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физического отвращения к женщине, к ее любви к англичанину.
— Пасынка приговорили к расстрелу, сына, может быть, помилуют. Дочь в тюрьме.
— И они участвовали в заговоре?
— Да, да, и я, я одна виновата… Боже мой, Боже мой… — докторша истерически рыдала.
Я не находила слов утешения, и мне было с ней неловко. А она все говорила, говорила…
По утрам я ввела гимнастику по Мюллеру. Открыв форточку, поскольку позволяли железные решетки, мы раздевались почти донага, становились в ряд и делали всевозможные движения руками, ногами и туловищем.
Я сказала, что гимнастика помогает сохранять молодость и красоту. Француженка, раскрашенная, в папильотках, старалась больше всех. «Un, deux, troix! Un, deux, troix»[54], — приговаривала она, махая руками. Слабые мускулы ее не привыкли к усилию. Каждый раз, когда надо было медленно опускаться на корточки, она падала навзничь и не могла встать. Поднимался такой смех, что вмешивался надзиратель.
— Тише, дьяволы, что у вас тут такое?!
Доктор Петровская в одной денной рубашке, с замотанной вокруг головы фальшивой косой, желтая, тощая, вызывала чувство брезгливой жалости. И никто не смеялся, когда она, как и француженка, садилась на пол, вместо того чтобы подниматься с корточек…
Один раз кто–то обратил внимание на отопительные трубы, проходящие в соседнюю камеру. Я села на пол и стала расковыривать известку железной шпилькой. Щель была замазана плохо, и известка легко осыпалась.
— Станьте у двери, караульте надзирателя, — шепнула я товаркам.
Доктор Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный пост.
— Щепочкой, щепочкой, — шептала она, — от коробки отломайте.
И вдруг я услыхала с той стороны шорох, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувство–вала, что ее вытягивают. Она вся ушла и через минуту снова показалась с привязанной к ней записочкой: «Кто у вас в камере? У нас сидят такие–то и такие–то». Записка была подписана пятью, один из них был знакомый, заседавший у меня в квартире.
Мы ответили. Завязалась переписка. Мне было важно узнать, как вести себя на допросах. «Скрывать что–либо бесполезно, ВЧК все известно», — был ответ.
Наивно просовывая щепочку в соседнюю камеру, мы и не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована, что доктор Петровская — наседка, передающая из камеры следователям ЧК все наши разговоры. Недаром ее так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель — Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря
Винограде кому; из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического центра происходили у меня на квартире, и тотчас же донес об этом следователю.
ЛАТЫШКА
Каждое утро около восьми часов быстро открывалась дверь, на секунду показывалась высокая костлявая фигура с красным лицом, кудельками на лбу и около двери стукалось ведро с такой силой, что вода, налитая до половины, расплескивалась вокруг. Дверь с силой захлопывалась, а мы спорили о том, кому достанется мыть пол. Это было одно из самых больших развлечений.
Через полчаса дверь снова раскрывалась, опять показывалась молчаливая фигура, красная большая рука хватала ведро и снова исчезала.
Таким же резким движением она швыряла молча нам в камеру чайник с кипятком, обед, ужин. Если она и говорила с нами, то всегда отрывисто, грубо, не глядя на нас, точно считала для себя унизительным обращаться к нам.
Придет за ведром, а мы еще не кончили мыть полы.
— Ну! Скорее! — крикнет и сильно стукнет дверью.
Казалось, в ней ничего не было человеческого — деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения.
«Неужели эта машина может плакать, любить?» — думала я. И я смотрела на нее с ужасом, она возбуждала во мне страх, больший страх, чем самое заключение, тюремные решетки. Каждый раз, как она входила в камеру, я вздрагивала и сжималась. А у нее на лице самодовольство, сознание исполненного долга, она со всей тупостью своей натуры поняла, что здесь, в ЧК, от нее требуют одного — потери человеческого образа, превращения в машину, и она в совершенстве этого достигла.
Мы пробовали с ней заговорить, она не только не отвечала нам, но и бровью не вела, точно наши слова были обращены не к ней.
«Неужели можно так дрессировать людей? — думала я. — А может быть, она сама по себе такая»…
Правда, что все служащие Чека были замечательно выдрессированы. Но они иногда разговаривали с нами, отвечали на вопросы, пересмеивались между собой, ругались, наконец. И, хоть и чувствовалась в них резкость и жестокость, но не было той холодности машины, которая была в латышке. Она казалась мне страшнее надзирателей, начальника тюрьмы, следователя…
Невольно мои мысли тянулись к ней, когда она входила, я не отрывала глаз, внимательно разглядывала ее плоское, грубое лицо с белыми бровями и ресницами, бесцветными невидящими глазами.
— Здравствуйте, товарищ! — вдруг, неожиданно для самой себя, сказала я ей, когда она швырнула в камеру ведро.