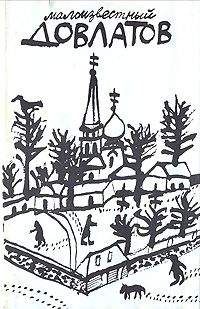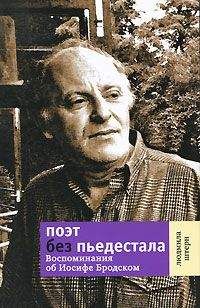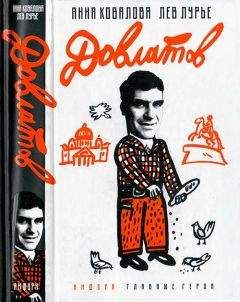Довлатов — добрый мой приятель - Штерн Людмила
— Лагерный трофей.
— Нехорошо, товарищ Довлатов, нехорошо, вещь принадлежит к разряду «иного холодного оружия». Будем составлять протокол…
— Плохо дело, — говорит опытный знакомый (две судимости), — сваливать тебе пора.
Альтернатива ехать–не ехать перерождается в альтернативу ехать или садиться. Чего тут выбирать? Между тюрьмой и Парижем не выбирают.
В записной книжке десятки вычеркнутых фамилий. Уезжают друзья. На Западе — любимая женщина с дочкой.
Рано утром звонок из ОВИРа:
— Зайдите на Желябова, 29, к полковнику Бокову.
Захожу. Невысокий мужчина в гражданском. Типовое, серийное лицо. Тон отеческий.
— Я вам искренне советую… Там ваши друзья… Там ваша дочь… Там перспективы…
— У меня вызова нет.
— Напишите заявление: «Хочу воссоединиться с женой».
— Мы развелись в семьдесят первом году.
— Но продолжали жить вместе. Ваш развод был формальностью, а мы не формалисты.
И я написал заявление. Бегаю по инстанциям, собираю документы. На каком-то этапе попалась совсем бестолковая тетка. Кого-то временно замещает. Об эмиграции слышит впервые. Отстукала нужную справку. Выхожу на лестницу, перечитываю. Конец такой: «Дана в связи с выездом на постоянное жительство в ОВИР».
Подаю документы. Чиновники предупредительны: «Благодарим, товарищ Довлатов, за оперативность».
Ждем месяц, другой. В июне Радио Свобода транслирует мою повесть «Невидимая книга». А восемнадцатого июля меня арестовывают.
— В чем дело? Что такое?
— Тунеядец! Паразит! Лицо без определенных занятий!
Меня везут на улицу Толмачева. Суд продолжается четверть минуты. Никаких возражений и доводов. Громогласное: «Десять суток!»
Я оказался в знаменитой каляевской тюрьме, где много лет назад сидел Ильич. Решетка на окне его мемориальной камеры выкрашена белой эмалью.
Такого хамства, такой беспричинной жестокости, как здесь, я еще не встречал. Даже в штрафном изоляторе лагеря особого режима. Там бесчинства вершились под эгидой лицемерной соцзаконности. Здесь — открытое бесправие и произвол.
— Что? Прокурора вызвать? А по рылу не хочешь?
Ни единого распоряжения без пинка. Ни единой реплики без отборного мата… Голые нары без плинтуса. Вместо подушки — алюминиевая миска. Курить и читать запрещено. Два раза в сутки — теплая овсяная жижа.
За любое нарушение режима — избиение, карцер, брандспойт…
В нашу камеру привели глухонемого. Читаю постановление об аресте: «Задержан в нетрезвом состоянии. Выражался нецензурными словами. Приставал к гражданам…».
Арестованный приходит к фельдшеру:
— Болят живот и голова.
Фельдшер достает таблетку и ломает пополам.
— Это тебе от головы, а это от живота. Смотри не перепутай.
Выпустили меня 27 июля. Наутро звонок из ОВИРа:
— Разрешение получено, можете ехать.
А днем заходит участковый:
— Живым я тебя не выпущу. Форменную облаву устрою. Людей у меня хватит…
Затем у нас сломали дверь. Днем, когда меня не было. Мать была дома, испугалась выйти на площадку. Потом отключили электричество. А телефон уже давно не работал.
За трое суток до отъезда мы переехали к родственникам. А 24 августа благополучно прибыли в Вену.
Оказывается, друзья беспокоились, хлопотали. Были заметки в газетах. Было сообщение по радио. Даже неловко: людей беспокоил, а сам жив-здоров. И на воле. Может, потому-то и на воле.
Я сердечно благодарю Максимова и Делоне. Обнимаю Марамзина, Ефимова и Хвостенко…
Раннее утро. За окнами тихая благополучная Вена. И опять передо мной лист бумаги. Пересечь заснеженную белую равнину нелегко. Как нелегко шагнуть с крыльца в первый зимний день…
Кто я, жалкий беженец или русский литератор? Отец в разлуке с дочерью, или жизнелюбивый холостяк? Как говорится, время покажет…
А над косо перечеркнутыми строчками встает заря!
Глава четырнадцатая
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Нью-Йорк Довлатова, конечно, ошеломил, несмотря на всю его психологическую подготовку. Как ошеломляет этот город почти любого, прибывшего из «другой галактики». Человеком овладевает целый спектр разнообразных, часто противоречивых, чувств и эмоций. Среди них и шок, и восхищение, и страх, даже несколько его «видов». Страх жить в этом чужом и огромном мегаполисе и страх в нем не прижиться, языковой барьер, невозможность ни понять другого, ни выразить себя. И четкое понимание, что этому городу совершенно безразлично, живешь ты в нем или нет. А главное, неумение и нежелание быть правдивым с самим собой и трезво осознать, что это смятение в душе абсолютно естественно. Гораздо проще и соблазнительнее катить бочку на Нью-Йорк и его обитателей. Что вскоре и происходит со многими нашими эмигрантами. В самом примитивном и вульгарном варианте.
Мы к тому времени уже прожили в Америке три года и считались ветеранами. Витя работал, Катя училась в Колумбийском университете, мои «Двенадцать коллегий» были опубликованы в журнале «Время и мы» и в течение месяца транслировались по Би-Би-Си на Советский Союз (в эфир их читал мой старый друг, покойный Славинский). В газете «Новое русское слово» стали регулярно появляться мои рассказы. Мы с Довлатовым по-прежнему переписывались. В письмах и по телефону я старалась утешить и развеселить его, пока до меня не стали доноситься слухи о том, как Сергей язвительно и недоброжелательно отзывается о моих литературных попытках. «Друзья» много сделали для того, чтобы до меня дошло каждое его слово, и их усилия увенчались успехом. Я обиделась.
После двух-трехнедельного молчания от Сергея пришло письмо:
12 марта 1979 года, Нью-Йорк
Милая Люда!
Ты давно перестала мне отвечать. Это, конечно, твое право. Но сейчас я в таком ужасе, в таком отчаянии, в таком абсолютном разложении, что лишить меня переписки и знакомства можно только в силу исключительных причин. Если таковые существуют, я умоляю тебя выразить их прямо и четко. Долгие годы ты мне симпатизировала, хотя я этого вовсе не заслужил. Поверь, это одно из самых дорогих воспоминаний моей жизни. <…>
Такое письмо оставить без внимания было, естественно, невозможно. Я приехала в Нью-Йорк. Мы помирились, и Сергей перестал брызгаться желчью. Во всяком случае, на некоторое время.
21 марта 1979 года, из Нью-Йорка в Бостон
Милая Люда!
Спасибо за письмо. Буду рад с тобой повидаться. Телефон мой (212) 359-0103. Но он скоро изменится. Вместе с адресом. Может быть, в течение недели. Мы переезжаем в
Forest Hills
. Район получше, и школа хорошая. Да и хозяин наш теперешний — белорус и красноармеец. Новый адрес и телефон сообщу. Моя растерянность куда обширней средних эмигрантских чувств. В этом-то плане на что мне жаловаться? В газетах обо мне пишут. По радио говорят. Дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть четыре издательских предложения. Все — несолидные. Ни денег, ни престижа. Есть халтура на Радио Свобода. В «Новое русское слово» пиши хоть каждый день (кстати, о тебе написали мои приятели Вайль и Генис, номер за 20-е. По-моему, грамотно и справедливо). Работу пока не ищу. Рано. Посещаю английские курсы. Бесплатные, а следовательно — некачественные. Уверен, что в два-три месяца подвернется работа. Тут два еврея создают новую газету. Преображается Свобода, а значит, будет вакансия.В Ленинграде при всем ужасе было ощущение цели. Вернее, перспективы. Тюрьма — Париж. Сейчас ощущение физического конца, предела.
Литераторов здесь нет. Откуда им взяться? Поповский скучен, глуп и блудлив. Лимонов — талантлив, но отвратен. Бродский — выше облаков. Наврозов — англоязычный полу-Набоков. Остальные — безымянные. Я даже слегка выделяюсь, увидишь.
Нью-Йорк жутко провинциальный, все черты провинции — сплетни, блядство, взаимопересекаемость. Блядство совершенно черное. Поэтессы… прямо в машине, без комфорта. И одернуть неловко. Подумают, дикарь… Кроме того, наступила старость. Внезапно, как мне и предрекали. Я — глухой. Плохо сплю. Не все могу есть. На лестнице задыхаюсь. И сердце болит.
Из моих 2500 страниц печатать целесообразно 1/6 часть. Остальное — макулатура. Пятнадцать лет бессмысленных стараний…
Ну, все… До встречи,
С. Д.