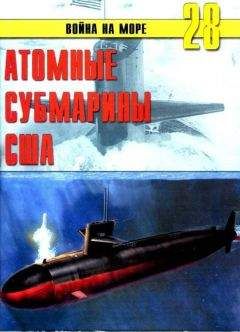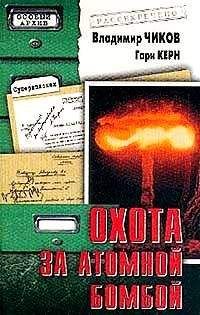Вера Аксакова - Дневник. 1855 год
И как он просто лжет в своих донесениях, этот Горчаков! Отдавши Севастополь, он писал, что теряет каждый день по 2500 человек, а тут выходит, что в три или четыре дня последних потерял всего 3000 с чем-то.
Говорят, Горчаков хороший человек, нет, он не хороший человек, потому не отказался давно от начальства; если б он был добросовестный человек, то он не взял бы на себя такой ответственности; особенно он сам писал еще в начале войны, что он всегда несчастен, что все его действия неудачны. О, когда-нибудь тут откроется более намеренного, нежели случайного! Если не он сам, то окружающие его и высшие распорядители…
На другой день Константин пошел вечером узнать в дом Самарина, не там ли его брат. Каково было его удивление, когда он нашел там Юрия Самарина, и каково было его поражение, когда тот сказал ему, что он идет в ополчение. Он не желал, разумеется, но был выбран и не захотел отказаться; меньшого же брата своего, скромного и молодого человека, он не хотел пустить вместо себя, потому что и в Оренбургской, и <в> Самарской губерниях уже получены предварительные бумаги об ополчении и что легко может достаться кому-нибудь из наших, особенно потому что дворян так мало в этих губерниях. Самарин совершенно убит настоящими событиями, ничего, разумеется, доброго не ожидает и говорит, что хотя не желал ополчения, но покоряется ему с мыслью, что будет, по крайней мере, чувствовать на себе также часть тягости общей. Он еще мечтал, что может принести какую-нибудь пользу, что это будет случаем сблизиться с народом, но когда Константин сообщил ему, что пишет Иван, как ратников искажают скоро все офицеры, какое вредное они имеют на них влияние, каковы сами офицеры, как в этой безобразной массе ничего не значит голос одного человека, – Самарин вполне согласился. Много они разговаривали, и неутешительные были их сообщения друг другу. Самарин не ожидает ничего ни от кого. Самарин вскочил с места, когда Константин подтвердил ему слух (которому Самарин не хотел верить), что австрийскому эрцгерцогу дан полк! Приехал в Москву князь Васильчиков, который говорит, что бомбардирование было невыносимо, что у Горчакова бывают прекрасные мысли, но что его сбивает Коцебу, который и вор, и трус. (Видимо, что Васильчиков старается защитить Горчакова, но не все ли равно, или даже для всех нас не хуже ли, что Горчаков благонамеренностью своею прикрывает мошенника.) Курское ополчение сражалось отчаянно топорами и из двух дружин много выбыло народу. Самарина брат ранен навылет в обе ноги; это счастливо, а брату Лидии Воейковой (молодой человек, 18 лет) должны были отнять ногу. Ужасно, ужасно!
Константин воротился поздно домой, но я еще не спала. Как поразило и огорчило меня известие о том, что Самарин идет в ополчение, и за него и за нас, и главное, испугало меня назначение ополчения в Самарской и Оренбургской губерниях. Сохрани Боже, если братьев выберут, особенно Константина! Гриша может быть квартирмейстером, а Константин, неужели фронтовым офицером? Боже мой, обидно за таких людей, что они должны употребить себя на такие дела, которые лучше их исполнит всякий, а они понапрасну оторвут себя от своей полезной деятельности. И что это за ополчение: это – рекрутский набор с дворян и все это на жертву Горчакова для того, чтобы он мог постоянно отступать с большим успехом. Это возмутительно. Подымая ополчение, должно было, по крайней мере, уважить их выбор главного начальника. Зачем не назначили Ермолова! Такая унизительная, бессмысленно веденная война хуже унизительного мира. – Боже мой, как все становится страшнее и общие современные обстоятельства все ближе к каждому.
Про Бибикова рассказывают, что его отставка была следующим образом. Бибиков не просил аудиенции у нового государя в продолжение 6 месяцев. Государь перед отъездом наконец призвал его и сказал: «Что это значит? Дела в вашем министерстве идут дурно, а вы до сих пор не просили у меня аудиенции?» – «Что дела в министерстве идут дурно, это совершенно справедливо, но они и не могут идти иначе, когда министр не пользуется доверием государя», – отвечал Бибиков. «Это правда, – сказал государь, – и потому я уже приготовил человека, чтоб заменить вас». Вслед за этим последовало увольнение из министерства, и государь уехал вслед за ним в Москву. Бибиков послал просьбу об увольнении его из всех должностей, что и было исполнено, и Бибиков, говорят, теперь ходит в штатском платье. – Отставка Бибикова обрадовала, говорят, всех, но, кажется, радоваться нечему: других отставок, как ожидали в первую минуту, до сих пор не последовало и вряд ли последует, а Бибиков отставлен за то, что был за эмансипацию. Конечно, большая часть помещиков радуется тому, что свободнее будут управляться с своими крепостными.
Целый день в Москве употребили мы на искание домов, много пересмотрели. Возвратившись один раз усталые домой, мы были так обрадованы известием, которое сообщила нам Оленька (был Казначеев и передал его, как самое верное), что Лидере, наконец, назначен на место Горчакова. Нельзя передать нашей радости, на душе отлегло. «Слава Богу», – сказали мы, точно услыхали о победе; и в самом деле, это стоило бы победы. Казначеев звал Константина к себе, потому что ему хотелось сообщить ему многое; Константин тотчас же поехал. Казначеев сказал ему, что знает из верного источника, что теперь начинается настоящая война, признан истинный смысл ее, что поручается Лидерсу команда, что Горчаков на место Долгорукова, что Долгоруков на место Орлова, что Остен-Сакен на место Лидерса. Признаюсь, эти перемещения стольких людей зараз заставили нас усомниться в истине первого и уменьшили нашу радость. А как необходимо было бы сменить Горчакова, в этом можно было удостовериться по тому чувству радости и одобрения, которое каждый испытал при этом известии. И как это возбудило бы расположение к государю! Как освежила и одобрила бы эта перемена наше несчастное войско, которое видит, что под командою Горчакова величайшие подвиги храбрости остаются бесполезны… И все-таки они отбили Севастополь, а он отдал!..
Один вечер просидел у нас Томашевский. Константина не было дома. Томашевский взял на себя обязанность оправдать перед нами Закревского, но вместо того, несмотря на все его старания, проговорился сам и таким образом убедил нас в совершенно противном. – В Москве все говорят, что если виноват Капнист в поставе сукна, то и Закревский не безгрешен; Томашевский силился доказать противное, сказав ему: «Может быть, вы и правы в этом случае, но зачем могут существовать такие обвинения, я представляю вам общий голос, а он против Закревского». Речь коснулась Ермолова, Томашевский пустился обвинять Ермолова за его письмо и стал рассказывать, как дело было, что Закревский спросил только частным образом сына Ермолова, думает ли его отец баллотироваться, потому что он слышал, что Москва хочет его выбирать, и вдруг на другой день получает такое письмо от Ермолова, которое Ермолов поспешил распустить в ту же минуту по городу; что это поступок скверный и что само письмо вредное, потрясает права царя, возмущает против его власти. «Ну и, может быть, Закревский донес об нем», – прибавил Томашевский, вероятно, думая, что мы о том уже слышали. Конечно, достаточно было этих слов, чтоб объяснить нам, в чем было дело: этот подлец Закревский донес на Ермолова, что он опасен, особенно, может быть, если ему дать власть и команду, что он бунтует против законной власти и т. д. И, вероятно, помешал назначению Ермолова на более важное место, и – какая мерзость! – все из личной вражды. До сей поры, говорят, они были в хороших отношениях. Мы с Любой горячо спорили с Томашевским, и так как он был не прав и тоже из личных отношений (сын его служит у Закревского) защищает неправду, то часто он не знал, как возражать, так что нам было забавно видеть его усилия переубедить нас. – Константин опять был у Самарина и видел там Михаила Оболенского, который ему объявил, что великая княгиня Елена Павловна желает познакомиться со всеми замечательными и умными людьми в Москве и просила его доставить ей случай познакомиться с Константином. Михаил Оболенский говорит, что Елена Павловна не требует никакого этикета, принимает у своей фрейлины баронессы Раден, что она знает все и почему Москва не оказала рвения и сочувствия к ополчению. Константин недавно писал об этом к Дмитрию Оболенскому, и, вероятно, тот ей прочел письмо. Константин не только оправдывает, но считает даже особенным указанием, что Москва показала равнодушие. Оболенский обещал, что как скоро Константин приедет из деревни, он это устроит. Оболенский самым убедительным образом упрашивал Константина согласиться на это приглашение, но Константин не хотел и Самарин подсмеивался, что его будут показывать, как медведя, и т. д. К тому же Константин думал, что мы на другой день рано едем назад в деревню. Оболенский просил Константина сказать, где он остановился, предлагал проводить, но Константин не сказал ему своего адреса и не дал ему себя проводить до дому. Впрочем, воротившись домой, Константин сам нашел несправедливым такое упорство и почти согласился внутренне на это предложение. Когда же сообщил об этом приглашении нам, то мы все так на него напали за нелепость и детскость такого упрямства, что он легко согласился, тем более что мы должны были провести ещё день в Москве. Вследствие чего Константин и написал к М. Оболенскому, что соглашается.