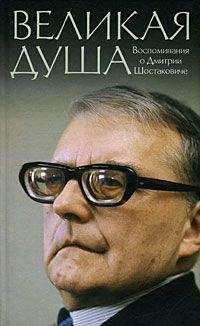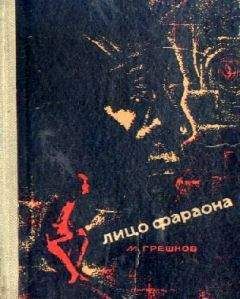Ваан Тотовенц - Жизнь на старой римской дороге
Овнатан молча снял со скульптуры тряпье, Маргарита вскрикнула и прижалась к брату.
— Это Давид?
— Да, Давид.
Сестра со всех сторон рассмотрела скульптуру. Страх Маргариты сменился восторгом.
— Я хочу сделать и твою скульптуру, Маргарита…
— Так же, как Давида?
— Да…
— А что скажут отец и мать? — прошептала девушка.
— Никто ничего не увидит. Мы будем приходить сюда по утрам, перед началом работы, и в воскресные дни. А потом… ведь ты моя сестра…
— А ты мой брат!
И Маргарита крепко обняла юношу.
Они вышли из мастерской. Последние лучи солнца уже скользили по макушкам самых высоких деревьев, темнели красные черепичные крыши домов, а небо на западе покрывалось лиловой золой отгоревшего дневного костра.
12— Еще два дня, и работа будет окончена, — сказал сестре Овнатан, прикрывая изваяние. В этот миг ему показалось, что под грязными тряпками скрылась сама луна.
Они вышли из мастерской.
Чуть погодя в гончарную зашел Иеремия.
Смочив глину и покрыв ее влажной простыней, он огляделся. Ему захотелось еще разок посмотреть на скульптуру маленького Давида. Он снял с изваяния тряпки и окаменел от изумления. «Кто эта бесстыжая девка, которая обнажилась перед моим сыном и позволила ему смотреть на себя?»
«Но, быть может, нагая женщина — игра его воображения?» — подумал гончар. Но нет, девушка стояла перед ним как живая. Тогда он взглянул ей в лицо… и узнал. Кровь бросилась ему в голову, все тело задрожало.
И тут его как будто окутал красноватый туман, руки сами собой сжались в кулаки, подобно рукам убийцы, готового броситься на свою жертву; сильным ударом он разбил голову статуе, затем смял ей грудь, отломал руки, стремясь прикрыть кусками глины наготу своей бесстыжей дочери. Наконец он снова прикрыл обезображенную скульптуру тряпками и пошел к двери. Но здесь им вдруг овладела непонятная слабость. Руки опустились, ноги отказались идти, и он заплакал, как ребенок. Иеремия понимал, что он разбил целую жизнь, но он не мог поступить иначе, не мог сдержать свой гнев.
Вскоре в мастерскую пришли его братья. Они сразу заметили, что с Иеремией случилось что-то неладное. Он выглядел так, словно только что потерял очень дорогого и близкого человека.
— Что с тобой? — спросили они.
— Ничего, все в порядке, — с горькой улыбкой ответил он.
И Иеремия направился к своему стайку. Его руки и ноги вновь задвигались в том же ритме, в каком они работали свыше пятидесяти лет. Сделав несколько сосудов, он взглянул в сторону отцовского станка. За ним стоял Овнатан, занятый изготовлением высокого кувшина, своей формой напоминавшего фигуру человека. Отец понял, что сын еще ничего не знает о случившемся, и его руки вновь бессильно опустились.
Когда после работы Овнатан подошел к нему, Иеремия не посмел посмотреть юноше в глаза.
На следующее утро брат и сестра, как обычно, тихо прокрались в гончарную.
Сбросив тряпки с изваяния, Овнатан на секунду застыл на месте, Потом он с плачем упал на колени, обнял изуродованные ноги статуи и припал лбом к влажной глине.
Маргарита подбежала к брату, обняла его голову и прижала к своей груди.
— Кто мог это сделать? — спросила она.
— Отец, — беззвучно прошептал Овнатан, продолжая плакать.
В гончарной никого не было, и утреннее безмолвие нарушалось только громкими рыданиями брата и сестры.
— Ступай домой, — сказал наконец Овнатан.
Вытерев передником слезы, Маргарита направилась к выходу.
— Постой! — внезапно остановил ее юноша.
Девушка обернулась.
— Мы не увидимся больше. Прощай!
— Овнатан?..
Маргарита снова заплакала.
— Поцелуй мать и Давида…
Опасаясь, что отец застанет ее здесь, девушка поспешила домой.
А еще через несколько минут в мастерскую пришел Иеремия. Не взглянув на сына, он молча направился к своему станку.
— Отец! — окликнул его Овнатан, вставая.
Иеремия остановился.
— Отец, я ухожу из дому. Ухожу навсегда.
— Ступай! Мне не нужен сын без стыда и совести! — отрезал Иеремия.
Юноша ушел. Иеремия положил на круг глину, но работать он не мог. Пальцы отказывались ему повиноваться. И он все думал и думал о своем курчавом синеглазом сыне.
«Ухожу навсегда», — с дрожью вспомнил он и, не в силах более сдерживаться, побежал домой. Здесь он рассказал жене о том, что произошло, надеясь в глубине души найти у нее поддержку и утешение.
— Ничего непристойного они не сделали, — возразила мать Овнатана и Маргариты. — Ведь она ему сестра…
— Молчи, жена! — прервал ее Иеремия. — Верно сказано в священных книгах: все женщины беспутны…
И мать умолкла. Она хорошо знала, что, если добавит хоть слово, на ее голову обрушатся громы и молнии.
— Уходит? Ну и пусть уходит! — продолжал Иеремия и тут же почувствовал, как заныло сердце.
— Где Давид? — неожиданно спросил он.
Позвали Давида.
— Вот, возьми эти несколько золотых, пойди к дороге, что ведет к высохшему роднику, и дождись Овнатана, — распорядился отец. — Когда он пройдет мимо, отдай их ему и пожелай счастливого пути.
— Я пойду с ним! — взмолилась мать.
Но Иеремия только сверкнул на нее глазами, и она тотчас умолкла, боязливо прижавшись к стене. Слово мужчины — закон, и закон этот установлен самим богом.
Притаившись за занавеской, Маргарита слышала разговор родителей. Не успел Давид выбежать из дома, чтобы исполнить поручение отца, как она поспешила за ним.
— Подожди, Давид! Я пойду с тобой…
Девушка спустилась в подвал, взяла белье Овнатана, связала его в узел и поднялась во двор.
— Поцелуй его синие глаза, — украдкой шепнула ей мать.
Высохший родник был построен еще в незапамятные времена. По сей день его украшали каменные изваяния тигра и льва, из широко раскрытых пастей которых некогда струилась студеная вода. Но много лет назад подземный обвал преградил путь воде, и родник перестал бить. Об этом роднике люди сложили легенду. Говорили, что будто бы каждую ночь из него идет вода. Но всего одно лишь мгновенье. И если кто-нибудь успеет испить — обретет бессмертие. Но еще никому не удалось сделать это. Иные приходили сюда на закате и уходили на рассвете, но всегда их одолевал сон, и мгновение бессмертия проносилось мимо.
Дойдя до высохшего родника, Маргарита и Давид присели на камень.
Тем временем Овнатан, на чело которого, подобно густому слою пыли, легла печаль, стоял на коленях у могильной плиты Андреаса, сына Давида, и шептал: