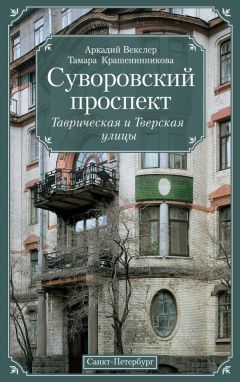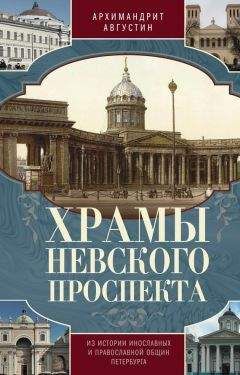Александр Николюкин - Розанов
В своих комментариях к письмам Страхова Розанов поставил и другой не менее важный вопрос: «Отчего и зачем у нас появилось 17-ое октября» (Манифест о свободе 1905 года)? Как-то в одном из писем Страхов упрекнул Розанова в том, что тот «связался» с начальством и «пассивно поддался» предписаниям его. В своих пояснениях Розанов говорит по поводу бесправия, существовавшего до манифеста: «Очень трудно „не связаться“ карасю с поваром. Только нас (всех вообще учителей, — знаю по рассказам) жарили о ту пору без сметаны, на сухой сковородке… Как это карась, когда его несут за спину на сковородку, не будет „пассивно поддаваться“??!! Нет, 17-ое октября и свобода прессы, конечно, адски была необходима, ею злоупотребили, злоупотребляют: и все-таки — благодатна свобода, благодатен открытый рот!»[128] Вот как стоял вопрос о гласности в начале века, когда печать ненадолго, всего на 12 лет, получила свободу слова.
В Ельце складывались воззрения Розанова на многие явления русской философской мысли от Чаадаева до Достоевского. В письме к Страхову в мае 1888 года он писал, что Чаадаев был увлекшийся католичеством русский человек, но — все-таки русский и без «коварства» в отношении к России. В позднейших своих пояснениях он вспоминает, что Россия, православие и русский народ — это «мои тогдашние фетиши», на которые Чаадаев не покушался, в отличие от Владимира Соловьева, который «по отношению ко всему этому совершает предательство»[129].
Через несколько лет в «Открытом письме к г. Алексею Веселовскому» по поводу его статьи «Гоголь и Чаадаев», написанном с целью развенчать легенду о «многострадальном» «Философическом письме», о Чаадаеве говорится: «Слава мелась по его следам, домелась до нашего времени и выразилась в робко-почтительных, жалостливо-прискорбных строках вашей статьи»[130].
Розанов пересказывает воспоминания своего учителя по Московскому университету Ф. И. Буслаева о том, как появилось в печати «Письмо» Чаадаева. Ректор университета А. В. Болдырев был цензором издававшегося Н. И. Надеждиным журнала «Телескоп», напечатавшего знаменитое «Письмо». Но предоставим слово самому Буслаеву, как его приводит Розанов: «Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увлечением играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и процензуровал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы нумер вышел в свое время. Но Болдырев, увлекшись игрой, ему отказывал и прогонял его от себя. Наконец согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, — пусть читает ее сам Надеждин, — и тут же, во время карточной игры, на ломберном столике подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, задирательное, пикантное и вообще недозволяемое цензурой при чтении Надеждин намеренно пропускал». Грозная резолюция из Петербурга не замедлила воспоследовать: Болдырева «как дурака» отрешить от службы, Надеждина «как мошенника» сослать в Усть-Сысольск, а к Чаадаеву «как к сумасшедшему» приставили двух полицейских врачей.
Но главное, что привлекло Розанова в воспоминаниях Буслаева, — это его слова о статье Чаадаева: «С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь»[131]. Это, по мысли Розанова, звучит как «единственный, смиренный в своей тихости и вместе уничтожающий ответ на знаменитое „Письмо“».
Чаадаев высказал свое представление о России и ее будущности, которое современники не поняли, и автор «Философического письма» был объявлен сумасшедшим не одним только «высочайшим повелением». Он заговорил о будущем России не в привычных патриотических традициях Сумарокова и Державина, Карамзина и Жуковского, а как человек нового века, постигший горечь настоящего и не склонный идеализировать прошлое. Чаадаев, который любил в своей стране «лишь ее будущее», нарисовал мрачную картину российской действительности, может быть, даже более мрачную, чем предстает перед нами в «Мертвых душах», столь потрясших Пушкина.
Розанов, уже высказавший к тому времени свои «укоры Гоголю», не мог, конечно, принять Чаадаева с его формулой: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя»[132].
Именно эпоха «мертвого застоя» российской жизни (не в первый и не в последний раз) породила слова великого гнева и великой боли, которые справедливы самим пафосом обличения, отрицанием не столько прошлого, сколько его результата — настоящего. «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили».
Говоря, что Россия «ничего не сделала для общего блага людей», что «ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины», что «мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь»[133], Чаадаев предостерегал против неверного толкования его слов: «Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог!»
Заметили ли потомки эту оговорку Чаадаева, учли ли ее в своих суждениях о нем? Приходится признать, что, как правило, не учитывали. Ухватившись за броскую формулу: «Мы ничего не дали миру», — они подчас проходили мимо того, что стояло за этой формулой и чем она была вызвана. А стояла за ней великая любовь к России, жажда и уверенность в ее будущем.
Непонимание Чаадаева современниками и читателями последующих поколений не могло не сказаться и на отношении к нему Розанова. Рецензируя двухтомник «Сочинений и писем» Чаадаева, вышедший под редакцией М. О. Гершензона, Розанов не преминул отметить, что «Философских писем», по правде сказать, никто не читает и не читал, а так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».
В Ельце была создана первая литературная книга Розанова — «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1890). Философское размышление о Достоевском, начатое в счастливые годы в Ельце, продолжалось всю жизнь Василия Васильевича. «Я потому так и люблю Достоевского, потому смерть его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такою любовью, таким состраданием»[134], — писал он Страхову в одном из первых писем 3 февраля 1888 года.