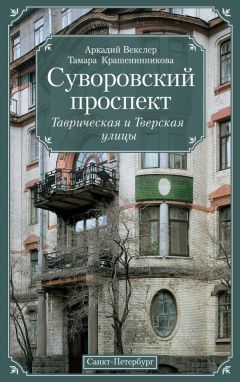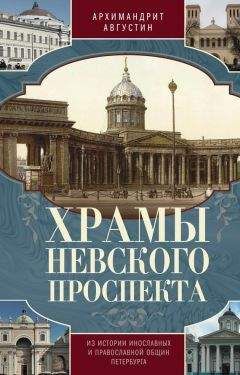Александр Николюкин - Розанов
Как вдруг по левой щеке почувствовал такой силы удар кулаком, что свалился на диванчик возле. Поднявшись, он увидел его уже убегающим через комнаты в прихожую. Розанов вышел за ним: он торопливо надевал пальто. Розановым овладела жалость к нему: «Бог вам простит! Бог вам простит!» — сказал он в спину уходящему.
Почти в недоумении Розанов написал о случившемся Страхову, просил совета. Но никогда у него не было мысли ни жаловаться, ни судиться, — «по всегдашней моей пассивности»[123], замечает он. Однако сам Михеев, очевидно, думал о суде и через прислугу подал на другой день письмо, также все «кланяющееся и извиняющееся». Прочтя, Василий Васильевич положил его на стол, но, вернувшись с уроков, не нашел его. Очевидно, Михеев что-то «дал» прислуге и взял письмо обратно, как «обличающий о факте документ».
Вероятно, Михеев вымучивал у детей «непременно четыре или пять» и в то же время внутренне их жалел и эту жалость к им же самим замученным детям перенес как гнев на третьего. И вспомнились Василию Васильевичу слова заплакавшего крошечного гимназистика, Бори Г. «Не ставьте мне три, отец меня порет за тройки».
Переписка со Страховым касалась буквально всех сторон жизни Розанова. В августе 1890 года редакция журнала «Русский вестник» получила из Ельца статью Розанова «О трех фазисах в развитии нашей критики», которую редактор журнала Ф. Н. Берг дал на рецензию Страхову. Тот прочитал и согласился с редактором, что «без переделки ее печатать нельзя». Страхов считал, что трактовка Добролюбова неудачна, и в письме Розанову 26 августа 1890 года высказал свой взгляд на роль Добролюбова и «нигилистов», который затем и лег в основу розановской трактовки этого вопроса: «Добролюбов действительно звал к общественной деятельности, но именно — к революции, к разрушению, к осуществлению социализма, к тому же, к чему звали полуумный Чернышевский и совершенно зеленый Писарев. Все они исповедовали нигилизм, и начало этой проповеди непременно нужно указать в Белинском, в последнем его периоде. Это было общее движение, поток отрицания, захвативший почти всю литературу. Конечно, в основе лежат нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать, что нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы»[124].
Эта программная статья Розанова появилась в «Русском вестнике» только два года спустя, а затем под названием «Три момента в развитии русской критики» была перепечатана в сборнике его статей «Литературные очерки». В ней дается периодизация русской критики. Ранний период, связанный с деятельностью Белинского, Розанов называет эстетическим, поскольку задача состояла в том, чтобы отделить в литературе прекрасное от посредственного.
Смысл и задачу второго периода русской критики, высшим выражением которого явился Добролюбов, Розанов видит в связи литературы с жизнью, в объяснении последней через первую, в этическом воспитании. Прекрасное было отодвинуто на второй план. Литература как учитель жизни приобрела колоссальное значение. Писатель стал главным, центральным лицом в русском обществе, к которому все прислушивались.
С волнением вспоминает Розанов то время своей юности, когда за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость старых и новых книг: «К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть… С этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал»[125].
Третье направление русской критики, которое Розанов называет «научным», возникло одновременно со вторым в работах Аполлона Григорьева, а затем Страхова. Тенденция развития критики в сторону научности заключается в установлении органической связи произведения с предыдущим и последующим в литературном процессе. Конечно, подлинной научности в критике ожидать в то время было трудно (да и в наше время это всего лишь идеал, а не совершившийся факт, как сказал бы Василий Васильевич). Однако заслуга Розанова в том, что он впервые столь широко и мотивированно поставил вопрос о ее необходимости.
Идеи Страхова были во многом близки Розанову, но он никогда не «подделывался» ни к кому, оставаясь самим собой, и в этом заключалась его сущность. Видя в Белинском и Добролюбове провозвестников революции, грядущего разрушения норм жизни народа, он вопрошал, каков будет тот «социализм», что установится в России после «революции» и всеобщего разрушения.
Вскоре после Февраля Розанов ощутил неминуемое и писал в «Последних листьях. 1917 год»: «Нельзя, чтобы внуки и внучки наши, слушая сказку „О Иване Царевиче и сером волке“, понимали, что такое „волк“, но уже не понимали, что такое „царевич“. И слушая — „…в тридесятом царстве, за морем, за океаном“, не понимали, что такое „царство“. И вообще без „царя“, „царства“ и „царевича“ русской сказке так же не быть, как русской песне не быть без „чернобровой девицы“. И они почувствуют, через 3–4 поколения, что им дана не русская история, а какая-то провокация на место истории, где вместо „царевичей“ и „русалок“ везде происходит классовая борьба.
— Мама, что такое классовая борьба? — спросит пятилеток.
Вопрос этот покажет, что уже не только нет „няни и мальчика“ у русских людей, но нет и „самой мамы“ и самих мальчиков, а все серьезные люди. С классовой борьбой их»[126].
Розанов смотрел не только в будущее России, но и в глубь ее истории, видел корни «идеи Белинского — Добролюбова» в XVIII столетии. «Нигилизм» уже содержался в реформе Петра Великого. Более или менее «мы все — нигилисты», говорил Розанов, понимая под этим преобладание разрушительной силы над созидательной. «Главным нашим „нигилистам“, вроде Чернышевского, Писарева, Зайцева, Шелгунова, Скабичевского, Желябова, Перовской, в голову никогда не приходило, что они суть ленивые люди, плывущие по течению, — косные люди, неспособные поворотиться по-своему, люди не оригинальные, шаблонные, „как все“, без звездочки во лбу, тусклые и неинтересные. А они-то „Байронами“ расхаживали, распускали павлиньи хвосты, учили, „обновляли“, „развивали“»[127].
В своих комментариях к письмам Страхова Розанов поставил и другой не менее важный вопрос: «Отчего и зачем у нас появилось 17-ое октября» (Манифест о свободе 1905 года)? Как-то в одном из писем Страхов упрекнул Розанова в том, что тот «связался» с начальством и «пассивно поддался» предписаниям его. В своих пояснениях Розанов говорит по поводу бесправия, существовавшего до манифеста: «Очень трудно „не связаться“ карасю с поваром. Только нас (всех вообще учителей, — знаю по рассказам) жарили о ту пору без сметаны, на сухой сковородке… Как это карась, когда его несут за спину на сковородку, не будет „пассивно поддаваться“??!! Нет, 17-ое октября и свобода прессы, конечно, адски была необходима, ею злоупотребили, злоупотребляют: и все-таки — благодатна свобода, благодатен открытый рот!»[128] Вот как стоял вопрос о гласности в начале века, когда печать ненадолго, всего на 12 лет, получила свободу слова.