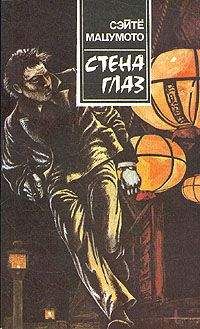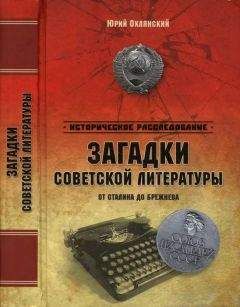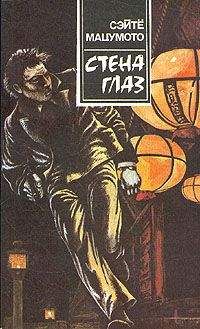Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени
А кто поручится, что в сарайном или чуланном мусоре не сгинули за десятки лет письма Н. Гарина-Михайловского, который не только арендовал одно время родовое имение матери А. Толстого — Тургенево, но и не раз помогал Александре Леонтьевне устраивать ее литературные дела в Петербурге; или ответы К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на запросы писательницы по поводу ее пьес, переданных Художественному театру; или другие письма (помимо найденных) от известного издателя И. Д. Сытина, у которого Александра Леонтьевна печатала свои книги… Да мало ли еще что могло быть или не быть на бросовых лоскутках старой бумаги, о чем остается только гадать и сокрушаться!
Глава четвертая
Никитино детство
За эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком…
А. Н. ТолстойО запасливости таланта
…Утонул в снегах отчий хутор Бострома Сосновка. Пригоршня домишек, нахлобучив белые шапки, отсыпается от летних трудов праведных. Если встать на взгорье спиной к пруду, обросшему столетними ветлами, и смотреть вдаль, то кажется, что нет больше на земле ни лесов, ни городов, ни людей — одна только белая, с оранжевым от поднимающегося солнца, степь. Коль и случится что за целый месяц, то разве такое: «На хутор днем забежал волк. Пробежал двором, садом и убежал…» (А. А. Бостром — A. Л. Толстой, 6 марта 1898 года). Кого потянет без особой крайности слать из этакой глухомани письма? Да и о каких-таких событиях в них рассказывать?
Но один мальчуган, непоседа и озорник, тут проявлял неожиданное прилежание. Письма у него получались так: «Я, мамуня, потому расписался вчера, потому что я сижу — думаю, и вдруг рука у меня как заходит-заходит по бумаге, я индо испужался — вот и накатал тебе целый лист…» (А. Н. Толстой — матери, 14–15 января 1895 года).
В Сосновке, где посторонний глаз не заметил бы никаких особых событий, 12-летний Леля был полон впечатлениями через край. Он торопится рассказать матери и о том, что «ночью шел совсем летний дождик и снегу осталось мало», а «нынча ужасный ветер гудит и завывает» и «под вечер прошел не то снег, не то крупа, не то маленький град»; и о том, как, несмотря на ветер и гололедь, он бегал на свою сооруженную «третьеводни» снежную крепость «Измаил»; и о том, что по рассеянности кухарки «приготовили вместо гусака индейку… потом пошли, посмотрели и распознали…»; и о том, как утром «у нас на столе поет самовар» и т. д.
В письме к отчиму (26 марта 1892 года) девятилетний Алеша описывает поездку с матерью на лошадях из Сосновки до соседнего сельца Утевкк. Мальчик захвачен своими наблюдениями — «пашни оголились и маленькие речки тронулись, а в Сосновке снега гигантские и почти непролазные», и вообще вся эта поездка «по глубокой воде» — «необыкновенное приключение». Алеша явно ищет краски для передачи своих впечатлений. «Стоят, мамутя, у нас такие холода, что вчера весь пруд покрылся льдом и к обеду не растаял. Он очень толстый, индюшку удержит, пожалуй. Утром выпадает мороз; работники молотят в шубах, зипунах; которые сверх шубы чапан надевают… Мы из Самары заезжали на хутор к Михайловскому (писателю К. Г. Гарину-Михайловскому. — Ю. О.) и оттуда привезли поросенка белого да курносого» (1896 год, октябрь — ноябрь). У созревших на поле подсолнухов «…шляпки так есть больше тарелки, а самые семена величиной с черных жуков…» (1896 год, 22 июля). И в этом многообразии увиденных мальчиком красок, услышанных звуков, в густоте идущих на него неприметных для других событий и проявлялась уже подлинная незаурядность сочинителя писем, написанных с таким фантастическим пренебрежением к правилам грамматики и с такой простодушной путаницей в сведениях из школьных учебников, что иной педант от педагогики, не задумываясь, предсказал бы их маленькому автору самое мрачное будущее.
С Сосновкой у Толстого связано пятнадцать детских и отроческих лет. Не удивительно, что в бумагах, хранившихся у самарских старожилов, немало оказалось именно неизвестных «сосновских» материалов. Обнаружены также и юношеские письма Толстого периода ученичества в реальном училище и затем — в Петербургском технологическом институте. Все это писано в 1890–1907 годах, то есть до выхода первой книги. Любопытность этих новых музейных приобретений очевидна. Но представляют ли они более серьезный интерес?
Оказывается, в определенном отношении эти ранние материалы поучительны совсем не меньше, чем найденные одновременно с ними многие письма Алексея Николаевича того периода, когда он стал уже «третьим Толстым» в русской литературе. Отчего — так?
Говорят, что впечатления детства самые сильные. Но какими бы яркими и живыми ни западали они в душу каждого, и тем более в чуткое от природы писательское сердце, — такая «густота» накопленных сызмала наблюдений и, в результате, столь интенсивное использование их в последующем творчестве, как у А. Толстого, случай в литературе не частый. Недаром исследователи Толстого даже называют значительный начальный отрезок его писательской работы «периодом воспоминаний» (хотя, разумеется, это очень условное название). Наблюдения детских и юношеских лет, слышанные тогда рассказы матери и родственников были зерном, из которого разрослась существенная часть написанного Толстым до революции.
Впечатления детства, кроме того, способствовали возникновению ряда произведений автобиографических: «Логутка» («Страница из жизни») — 1912 год; «Детство Никиты» — 1920 год; «Необыкновенные приключения Никиты Рощина» — 1921 год и др. Но и после этого не иссяк чудесный источник! Уже в 1938 году, раскрывая молодым писателям один из «секретов» работы над романом «Петр I», Толстой подчеркивал особую роль, которую сыграли «запасенные» в детстве наблюдения. Они помогли ему описать петровскую Русь. «Каким образом люди далекой эпохи получились у меня живыми? — говорил Толстой. — Я думаю, если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появлялось ощущение эпохи, ее вещественность.
Этих людей, эти типы я проверял потом по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать, давали вещественность тому, что я описывал».