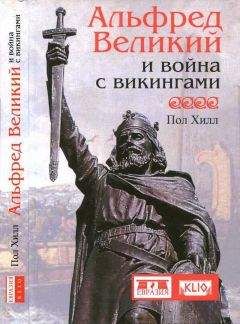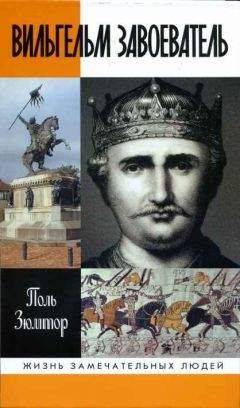Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
Чтобы этого добиться, автору нет нужды прибегать к непечатным выражениям. Напротив, в равной, если не в большей, мере его цели скорее послужат ловко завуалированный образ, double entendre[131] или целая строка точек и даже пустое пространство. По правде сказать, профессиональный порнограф чересчур умен, чтобы использовать грубые слова: когда называют пику пикой, она утрачивает всякую двусмысленность, а это никому не нужно. Цель профессионального порнографа — пробудить в вас дремлющую сексуальную брутальность, тайные, постыдные желания. Стало быть, он взывает к низменным инстинктам; его метод основан скорее на аллюзии, нежели на точности изображения: скрытый образ окажет более сильное воздействие на подсознание, нежели прямое описание полового акта, когда ничего не остается на долю воображения.
Генри Миллер чересчур здоров, чересчур целостен, чтобы быть порнографом. В непристойности нет ничего предосудительного, равно как не может быть ничего предосудительного в религии или даже в политике, если только ты не одержим ими с чрезмерной однобокостью фанатика. Миллер ничем не одержим: он принимает все подряд — легко, со смаком, с удовольствием и здоровым аппетитом. Его всегда как-то удивляла щепетильность тех, кто в своей кровавой резне хладнокровно пускает в ход самые непристойные орудия уничтожения и тем не менее проявляет столько раздражения, обнаружив в печатном издании какие-то полдюжины безобидных коротеньких слов.
Он не поклонник цензуры. «Единственное, чего добилась цензура в попытке пресечь распространение „Тропика Рака“, — это то, что она загнала его в подполье, ограничив продажу, но обеспечив ему тем самым лучшую из реклам — слово устной рекомендации, — пишет Миллер в памфлете „Обсценность[132] и закон отражения“. — Книгу можно найти в библиотеках почти всех крупных колледжей, профессора часто рекомендуют ее студентам, и она уже заняла свое место в ряду других скандально известных литературных произведений, которые, будучи аналогичным образом однажды запрещены и преданы поруганию, теперь признаны классикой. Она обращена в первую очередь к людям молодого поколения, и, судя по тому, что я узнаю прямо и косвенно, она не только не губит их жизнь, но даже делает их нравственно чище. Эта книга — живое доказательство несостоятельности цензуры. Она еще раз подтверждает, что теми немногими, кого якобы защищает цензура, являются сами цензоры, и это лишь благодаря закону природы, известному всем, кто слишком много на себя берет».
Без сомнения, есть люди, которые покупают (по ценам черного рынка) запрещенные книги Миллера в надежде получить эротическое наслаждение. Люди такого сорта скорее достойны жалости, нежели презрения, потому как они сами себя обманывают; они, так сказать, обращаются к Миллеру по ложному поводу, рассчитывая получить от него то, чего он дать не может — по той простой причине, что у него этого нет. Ничего такого, что наводит на похотливые мысли, нет даже в самых грубых пассажах «Тропика Рака» — да и в любой другой из его книг, если уж на то пошло. Существует несколько причин, в силу которых читатель, ищущий порнографии и ничего кроме, будет непременно разочарован книгами Миллера. Во-первых, Миллер — человек страстный, но не эротоман: в высшей степени осознавая важную роль секса, он не концентрируется на нем в ущерб всему остальному. Он является одним из самых великих лирических писателей, которых англоязычный мир дал за последние несколько столетий. Острая прямота и поэтическое богатство его языка сравнимо разве что со стилем отдельных авторов елизаветинской эпохи и ранних мастеров французского Возрождения.
Есть одна очень важная причина, почему профессора ведущих американских колледжей настоятельно советуют студентам читать Миллера. Чистота, лиризм, мощь его голоса в равной мере и побудительны, и неотразимы. «Они дают представление о том, что еще можно сделать — даже в наше позднее время — с английской прозой… ей возвращен эпитет. Это рельефная, пышная проза, проза, обладающая ритмом, это нечто совершенно отличное от вошедших сейчас в моду осторожных, плоских формулировок и диалектов буфетной стойки», — цитирует Джон Эллиот Джорджа Оруэлла в коротком эссе о Генри Миллере «Голодный взгляд» («Читательское обозрение». T. 1. № 4).
Верно, все это присутствует в текстах Миллера, но есть и кое-что еще, о чем Оруэлл не упоминает в данном контексте, — нечто, что убивает потенциальную радость любителя порнографии, вознамерившегося пощекотать свою чувственность, убивает столь же надежно, как распылитель ДДТ убивает тучи москитов, и это нечто — его чувство юмора! Чувство юмора не сочетается с сексом. Секс — дело жутко серьезное, и вот в каком смысле: совершая половой акт, вы действуете как бы от лица Господа. Бог, по моему твердому убеждению, очень серьезно относится к Своему творению. Нигде в Священном Писании нет ни намека на Его чувство юмора. И когда Бог делегирует человеку полномочия сделать Его дело, человек тоже теряет чувство юмора. Вы не смеетесь и даже не улыбаетесь, когда пробуждается ваше эротическое чувство. Попробуйте подумать о сексе как о чем-то смешном — и у вас даже не возникнет эрекция. Сексуальность и эротизм с сопутствующими элементами непристойности, брутальности и порнографии просто-напросто исключают и устраняют смех. Секс и смех несовместимы — по крайней мере были несовместимы, пока не появился такой человек, как Генри Миллер!
Самые грубые, самые непристойные пассажи его книг пронизаны чувством юмора, которое освобождает эротизм от всего нездорового. Достаточно обратиться хотя бы к Рабле, чтобы убедиться, что подобное лечится подобным. В его книге тоже есть некий очистительный фактор, дезинфицирующее средство, снимающее всякий налет грязи.
Цитирую — по необходимости — отрывок из французского перевода «Тропика Козерога», дабы проиллюстрировать мою точку зрения:
…Elle avait l’air tellement idiote que je ne fis tout d’abord pas attention à elle. Mais elle aussi avait un con, comme toutes les autres, une sorte de con personnellement impersonnel dont elle était inconsciemment consciente. Plus souvent elle descendait chez nous, plus elle devenait consciente, à sa façon inconsciente. Un soir qu’elle était dans la salle de bains, et où son séjour se prolongeait de façon suspecte, je vins ainsi par sa faute à penser des choses. Je décidai de jeter un coup d’oeil par le trou de la serrure et de voir par moi-même de quoi il retournait. Or voici! Voici qu’ elle est debout devant la glace, choyant et caressant son petit chat. Lui parlant presque, ma parole. J’étais si excité que je ne sus que faire, tout d’abord. <…> Je défis ma braguette, histoire de laisser mon truc prendre le frais de la nuit. Du divan où j’étais, j’essayais de la mésmeriser, ou du moins de faire que mon truc la mésmerisât. <…> Je ne crois pas avoir, de toute ma vie, fourré la main dans une fourche aussi juteuse. De la colle de pâte, ruisselant sur ses jambes; si j’avais eu des affiches à portée de main, j’aurais pu en coller une douzaine pour le moins. Au bout de quelques instants, aussi naturellement qu’une vache qui baisse la tête pour paître, elle se courba et le prit dans la bouche. Pour moi, j’y allais à quatre doigts dedans elle, battant le tout en neige. Et elle, la bouche pleine, les jambes ruisselant de jus. Pas un mot de part et d’autre, ai-je dit. Rien qu’un couple des paisibles maniaques faisant leur boulot dans le noir comme des fossoyeurs. C’était un paradis, de baiser ainsi, je le savais et j’étais prêt, archiprêt à y faire passer toute ma matière grise s’il le fallait. Jamais encore je n’avais baisé comme avec cette fille. Pas une seule fois elle ne l’ouvrit — pas plus cette nuit que la nuit suivante ni aucune autre nuit. Elle descendait et se coulait furtivement dans le noir, dès qu’elle flairait que jétais seul, et me recouvrait de son comme d’un emplâtre. Et il était énorme, ce con, quand j’y repense. Dédale obscur et souterrain doté de divans et de cosy-corners, de con dents de caoutchouc et de seringues, de niches moelleuses et d’édredons et de feuilles de mûrier. J’y piquais de nez comme un ver solitaire pour m’y ensevelir dans une étroite fente ou régnait tant de silence, de douceur et de repos que je m’y couchais comme un dauphin sur des bancs d’huîtres. Un léger spasme et j’étais en Pullman, en train de lire mon journal, ou au fond d’une impasse aux pavés ronds et moussus, aux petites barrières d’osier s’ouvrant et se fermant automatiquement. Ou encore c’était comme au water-fall: un brusque plongeon, puis un embrun de crabes mordillants, le balancement fiévreux des joncs et les branchies de minuscules petits poissons me lappant doucement et jouant un clavier d’harmonica. Dans l’obscurité de cette grotte immense résonnait une musique d’orgue, noire glissante, savonneuse comme la soie, quand elle y allait pleins gaz et pleins jus, il en jaillissait un pourpre violacé, une tache sombre de mûre écrasée, pareille à un crépuscule, un de ces crépuscules ventriloques qui sont la joie et l’apanage des crétins et des nains au temps de leurs menstruations. Cela me faisait penser à des cannibales qui mâcheraient des fleurs, à un délire de Bantous, à un rut de licornes vantrées sur de lits de rhododendrons[133].