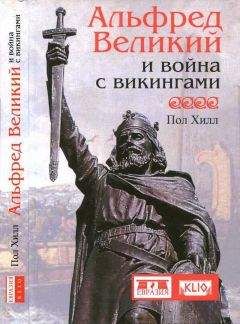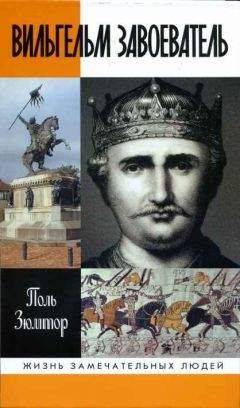Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
— Месье Анри иногда говорит прямо как лунатик, — как-то снова сказала Полетт, и мне, конечно же, пришлось согласиться. — Что за книги он пишет?
Шутка ли дело, подумал, я, объяснить ребенку смысл Миллеровых сочинений! Я сказал ей, что нет никакой разницы между этим человеком и его творчеством, но для нее это как горох об стенку.
— Месье Анри печатает намного быстрее тебя, — заметила как-то Полетт, — и когда сидит за машинкой, часами стучит не переставая. Ему что, не надо думать?
Неплохое наблюдение! Достаточно было одного взмаха магического жезла, чтобы слова хлынули стремительным потоком, словно каскад родниковой воды, переливающейся всеми цветами радуги. Конечно же, ему не надо было думать! Ведь разве какому-нибудь Тосканини{128} приходится думать, когда он дирижирует симфонию? Генри умел писать — точно так же как люди умеют дышать. Потому-то он и мог выдавать страницу за страницей, не дожидаясь того, что второстепенные писатели называют вдохновением. Вдохновение было частью его умения. Он никогда не утруждал себя поиском «хорошего» слова — так искусный пловец сходу определяет «хорошую» воду. Его слова ложились естественно верным порядком.
В текстах Генри и впрямь присутствует какое-то сезонное качество: слова и предложения дают почки, распускаются, цветут и плодоносят — в назначенный час. В этом смысле его книги суть явления природы, но природы девственной, без всяких там теплиц или искусственных ирригационных систем. Каждая его фраза — как дикий сад на какой-нибудь дружественной планете. Его творчество — это нечто живое, живое и цельное, как солнечная система — с ее собственным, только ей присущим тяготением, только ей присущим магнетизмом, — вращающаяся вокруг собственной оси. Миллер пишет и живет вспышками, но эти вспышки непрерывны, как цепь электрических разрядов. Он весь горючее, весь горение, и при этом — никаких отходов, разве что немного пепла[126]. Его страницы — как блестящий драгоценный металл, усыпанный драгоценными каменьями, — тропические страницы, обдающие обжигающим дыханием джунглей, арктические страницы, хранящие седой иней морозных узоров на деревьях и сталактитах.
4Джек Каган{129} был основателем и владельцем «Обелиск-Пресс» — парижской фирмы, специализировавшейся на издании книг, которые, в силу существования в Англии и Америке специфических законов о непристойности в искусстве, могли иметь хождение только на зарубежном рынке. Я не хочу сказать, что Каган имел дело исключительно с порнографической литературой, — отнюдь. Но у этого пронырливого англичанина был нюх на книги, способные обеспечить гарантированный спрос. Романы эротического характера в соблазнительно оформленных суперобложках, обернутые для надежности в желтый целлофан, как магнит притягивали орды англосаксонских туристов, наводнявших в ту пору Париж.
В период становления «Обелиск-Пресс» Каган обнаружил, что не так-то легко раздобыть подходящий для издания материал, поскольку он собирался выпускать книги особого характера — легкие, увлекательные, рисковые, балансирующие на тонкой грани, отделяющей эротику от грубой порнографии. Порнография была табу даже во Франции, правда судебная машина запускалась в ход только при наличии жалоб со стороны властей. Чтобы преодолеть первые трудности, Каган набрался решимости и собственноручно написал несколько романов. Я забыл их названия, но отлично помню, что он использовал два псевдонима — Безил Карр и Сесил Барр. Эти книги были написаны им без особого энтузиазма и без особого таланта, но именно в том жанре, который, по его твердому убеждению, обеспечивал отсутствие проблем с их раскупаемостью. Продукция этой «парочки акул пера» — Сесила Барра и Безила Карра — послужила залогом дальнейшего успеха «Обелиск-Пресс».
Не надо тем не менее полагать, что Каган с полным безразличием относился к литературным ценностям и преследовал чисто коммерческие интересы. Он был в состоянии распознать хорошую книгу, если таковая попадалась ему на глаза, но при этом прекрасно понимал, что хорошая книга вовсе не обязательно будет хорошо продаваться. Одним из лучших бестселлеров, изданных им до того, как Миллер стал его grande vedette[127], был «Моя жизнь и любовь» Фрэнка Харриса. Впоследствии он выпустил также «Скалистый пруд» Сирила Конноли и «Черную книгу» Лоренса Даррелла — это в качестве примера его сугубо литературной продукции. Кагана отлично знали в англо-французских литературных кругах, а в числе своих друзей он упоминал Стюарта Гилберта{130} и Джеймса Джойса{131}.
Словом, он был симпатяга, этот бирмингемец, наполовину ирландец и, по-моему, наполовину еврей, хотя мне он казался англичанином до мозга костей. Он обладал всеми добродетелями и странностями чистокровного британца. Всегда ходил в элегантном деловом костюме клерикально-серого цвета и, как правило, с гвоздикой в петлице; был осторожен и осмотрителен в речи, демонстрировал слегка ироничную улыбку, пил бутылочное пиво «Басс» в баре «Кастильоне» неподалеку от его конторы, имел вставные зубы и, вероятно, характерный душок изо рта. Un vrai Anglais, quoi![128]
О Миллере он узнал от Уильяма Эспенуолла Брэдли{132}. Брэдли, ныне покойный американский литературный агент, которому Миллер показал свою рукопись, был покорен моментально. Тут я должен уточнить, что это был первый вариант «Тропика Рака». (Читателю, возможно, интересно будет узнать, что за три года, истекшие прежде, чем «Тропик Рака» увидел свет, Миллер много раз переделывал и переписывал эту книгу. В результате осталась лишь треть ее первоначальной версии. Черновик первого варианта бережно хранится в Лос-Анджелесе, в библиотеке Калифорнийского университета.) Потрясенный напором этой книги, Брэдли был вынужден признать, что найти для нее издателя — дело почти безнадежное. Прокручивая в голове возможные варианты, он вспомнил о Кагане, с которым уже имел дела в прошлом. Представляю себе диалог между американским агентом, с энтузиазмом взявшимся пристраивать книгу своего соотечественника, и недоверчивым и подозрительным англичанином.
— Послушай, Джек, тут у меня есть для тебя книга — это как раз то, о чем ты всегда мечтал. Ты можешь сделать на ней целое состояние.
— Да? — произносит Каган, насмешливо глядя на собеседника сквозь очки в роговой оправе.
— Это покруче Фрэнка Харриса.
— Да? — произносит Каган, поскучнев.
— Это круче «Фанни Хилл»{133}, де Сада{134} и даже Рабле.