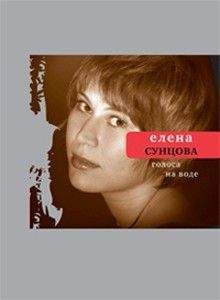Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах
Он был очень аккуратен. Когда мы снова встретились в конце его жизни, дал мне прочесть 4 сшитые перепечатанные тетради стихов. В прозе А. П. был целостнее, сильнее. В стихах, к большой невыгоде автора, получалось так, что поэтические перлы утопали в обилии водянистой бесцветности. Беда была в том, что автор не сознавал своего срыва. Нет стихотворения, которое можно бы принять без поправок. Не была осознана тематика в этих тетрадях, не было размещения по циклам. Изысканность, тонкость, занимательность, смелая образность — оставались разбросанными жемчужинками в мусоре. Невыгодна была также абсолютно однообразная форма. «Классический ямб», — говорил автор. Это отнюдь не оправдывает недостатка мастерства.
Книга стихов «Вселенная», подобранная и составленная мною, была дана для прочтенья Льву Озерову [347], рецензенту Грудневу из издательства «Советский писатель», поэту Дмитрию Голубкову и вызвала у всех половинчатое отношение.
Корней Чуковский извинился, что не мог одолеть всех присланных ему рукописей (60!), но, просмотрев стихи, отозвался благожелательно.
Я подобрала бы его прелестные поэтические наблюденья в тоненький, но памятный сборник. Сумел же Алексей Петров сказать о цветах так зорко и глубоко:
«Умны вы слишком для печали,
Красивы слишком для земли!»
Его первое замечанье, привлекшее мое внимание, было: «Как велико значенье в отношениях людей — бережности». И если он сам изменял себе в этом, то пониманье было.
БлагодарностьБлагодарю тебя, природы гений,
Что побывал я в этом бытии.
За реку, за лесные светотени,
За росы, что я мог в листве найти.
За последождевую тишь такую,
Что капелька, упавшая в листве.
Звучит на солнечную ширь лесную,
Как выстрел, оглушительно резка.
За травку, что, влюбленными примята.
Медлительно, но неуклонно вновь
Пряма становится, что пахнет мята,
И головокружительна любовь.
За всё, что я увидел в бурях мира,
За всё, что не узнал я, что я есть,
За то, что я исчезну с жизни пира.
За думы и дела, что мне не счесть.
Я липы лист в глуби зеленой чащи
Целую на прощанье, уходя,
Как кончик пальцев Матери Творящей,
Не думая, не плача, не грустя.
[А. А. Петров]
Флория ТоскаЛуна зимний мир пополам
На свет и на тьму делит жестко.
Доносится по этажам
Предсмертная ария Тоски.
Мне нужно, что к слову «любовь» —
Забыть мне ее удалось ли? —
И рифма старинная — кровь.
Пролитая Каварадосси.
Пустую невзрачную явь
Квартиры снести мне нет силы.
О Тоска, надежды оставь,
Жених твой поет у могилы.
Черны, точно тень от луны,
Шелка и глаза, и прическа,
Белее снегов белизны
Щека твоя нежная, Тоска.
Хотел бы я, Тоска, порвать
Все злые тюремные игры,
Чтоб снова могла ты гулять
С любимым под солнцем у Тибра.
Луна и мороз, я не сплю,
Подавлен мечтами глухими.
О Флория Тоска, люблю
Твое я цветковое имя.
[А. А. Петров]
8. Борис Пастернак
«Спи, подруга, — лавиной вернуся» [348].
Б. Пастернак«Это безобразие, что мне ничего не нравится», — говорила хорошенькая и взыскательная Варя Монина. Но вот понравился и сильно новоявленный поэт, тогда еще только завоевывающий вниманье литературных кругов. «Когда я вчера возвращалась домой, он проходил подругой стороне Знаменки, и до меня дошла горячая лирическая волна, от него исходящая».
Как-то Боброва, Аксёнова, Пастернака застала гроза на Арбатской площади, они, все трое, тогда находившиеся в частом общении («Центрифуга»), зашли в ближайший подъезд и не заметили, как кончился дождь, в ожесточенном споре о философии Гегеля.
«Это единственный современный поэт, отмеченный чертой гениальности». — «Вы слишком легко распоряжаетесь понятием „гений“», — останавливал Варю Монину Иван Никанорович Розанов.
Так я впервые услышала имя — Борис Пастернак. То было начало 1920-х гг. Тогда всё кафе «Домино», первоначальный Союз поэтов, бросилось подражать сумбурной стихотворной манере Пастернака, смешению вещей, вроде: снег, сапоги, апельсинная корка, воспоминание, разорванный конверт и т. п. Впрочем, это было и общим стилем сдвинутого времени. Характерно звучало название Бориса Пильняка «Волки и машины»[349].
Дальше я слышала о Борисе Леонидовиче: «Он скромно входил в книжный магазин на Кузнецком и предлагал для распространения свой сборник „Поверх барьеров“[350]. Он женился на художнице Жене [351], безумно в него влюбленной, и приходил в Союз поэтов занимать деньги. Была нужда».
Он вернулся из Парижа, встретил в арбатских переулках Варвару Монину и неожиданно ее поцеловал. Густым бархатным басом ей пожаловался: «И там, как и тут, я читал Эдгара По, что было главным для меня».
«Париж в дельцах,
В золотых тельцах»[352].
Варвара говорила, что Б. Л. сетовал о своей некрасивости: «Какие толстые у меня губы». Губы действительно были, как я писала о Пушкине:
«А губы-то вперед! У абиссинца
Такие же, когда в полдневный зной
Снежно-холодного ручья напиться
К земле приляжет тяжестью грудной».
Переводчица Наталья Вержейская, встретив Б. Л. в столовой Союза писателей, ужасалась: «Он безобразен». У меня была не вошедшая в строфу строка: «И красотой, и некрасивостью хорош». Его лицо легко можно было преобразить в демонически прекрасное. Ходили портреты, где он выглядел, как задумавшийся над бездной ангел Врубеля [353].
Б. Л. щедро, добро откликался на предложенные ему для отзыва стихи молодых поэтов. Варваре, прочтя ее тетрадочки, сказал: «Что в Вас прекрасно, так это импрессионизм». Говорил ей еще: «У Вас очаровательный голос, выступите в Доме печати с чтением моих стихов».
Моя фильская [тетрадь] из обрывков бумаги, сшитых нитками, попала к нему путем передачи через третьи руки и, спустя десятилетия, он говорил, что она у него хранится. В последующие годы встречала я Б. Л. на вечере Тарабукина [354] в Доме Академии художеств. Я прочла там свою «Рябину», и он сказал: «Как хорошо, что такие стихи есть, свободные».