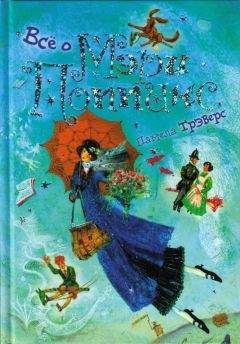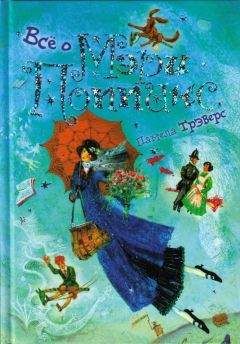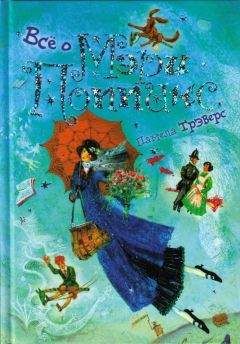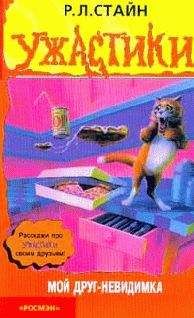Леонид Леонов - Взятие Великошумска
Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались, точно подвешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой снежной пылью простора, - довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял с маху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непрочный ледок, размещая без задержек грузы, войска и технику, прибывшие наконец к месту назначения. И каждый раз горячий пар облачком вырывался из воды, а отраженное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвясь, снова сомкнуться в круглое, медное, целое... Находились и смельчаки: в исступлении отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...
Тут же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжелое немецкое сомненье контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тола разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы - все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой - взорваться в гуще врага... Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги - из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченки, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и вражеское мясо спружинили ее падение, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете, - майор.
Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярчики скакали по бокам, фуражка скатилась с него и слетели очки. Вслепую и не оглядываясь он бежал к ближним кустам, где можно было притвориться падалью, - проваливался в снег и опять бежал: он любил жить. Ему удалось выиграть время, - двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То был пожилой, средней упитанности фашистский хлюст с майорскими зигзагами на рукаве и, кажется, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращенья девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке; это был он, тот самый, что посмел замахнуться куренком на старуху, и теперь уже никто не уберег бы обреченного германского майора от Литовченки. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать беглеца хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд! Расстояние стремительно сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.
Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжко и медленно закрутилась на месте, как бы стараясь ввинтиться в мерзлую землю. Собольков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. "Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!" - бормотал Собольков и все пытался обернуть орудие к врагу, которого еще не видел - сколько его и каков. Второй удар пришелся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздирающий уши звон вплелись неясные смертные стуки... и все же он еще тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.
- Уходи... все! - успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки. И он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ноги с педали. - Лес... бежать... всем... - повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.
Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее, - Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалясь к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная темная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый командир еще глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк; и опять - уже в последний раз - ослушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.
Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток, в одну и ту же дыру, туда, где тревожно мяукал Кисo, вошли четвертый и пятый, - и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то смертно заломило ноги у Обрядина.
- Погоди, не вались... давай вылезать отсюда, - осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. - Вылезай, Соболек... милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще во!.. Давай, упрись сюда ножкой, Соболечек мой...
Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едва понял, что и у десятка Обрядиных не хватит силы вытолкнуть командира наружу. "Одолели, одолели..." - прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто сбил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.
Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушчонка. Черт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не промахиваются и новички. Уже были исковерканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка; уже вся двести третья просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те все стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили ее, сшибали все крышки и, как жесть, разгибали броню; только животный страх, что еще оживет двести третья - без гусениц, без башни, - мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.