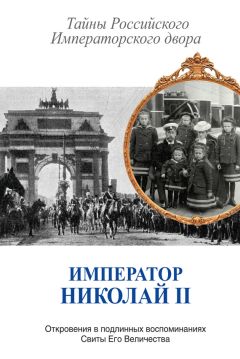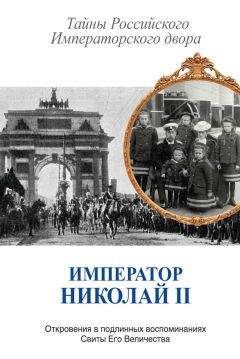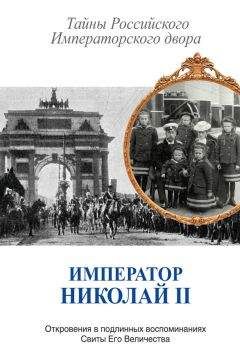Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - Нике Мишель
Тем не менее Юлия Данзас продолжала участвовать в защите петроградских русских католиков. Ее двойник в «Наедине с собой» напоминает ей о ее выступлениях на собраниях, где она «страстно защищала христианство против разных „товарищей“» (с. 109).
Фёдоров, Цепляк, Будкевич или Жан-Батист Амудрю (кюре церкви Нотр-Дам-де-Франс в Ковенском переулке с 1908 по 1935 г., когда его выслали из СССР после того, как епископ Невё втайне рукоположил его епископом) неоднократно протестовали против конфискации ценных предметов или закрытия церквей: часовня на Бармалеевой улице была опечатана 25 ноября 1922 г., но благодаря скрытой за шкафом двери, ведущей в квартиру о. Дейбнера, прихожанам удалось спрятать предметы культа. С тех пор «кафедральным собором Российского экзарха» служила комната в квартире Юлии, а алтарь был заставлен ширмой [59]. Мессу там совершали ежедневно, вплоть до ареста о. Леонида в начале марта 1923 года. Четыре раза Юлия ходила в тюрьму его навещать, она также написала письмо в Центральный исполнительный комитет (ВЦИК), подписанное четырьмя другими католиками, с ходатайством за о. Леонида [60]. Часовня была окончательно опечатана 5 июня 1923 года. Мебель и церковный инвентарь (73 предмета) были конфискованы в присутствии Юлии Данзас, Капитолины Подливахиной, о. Дейбнера и его сына, а комната вновь стала жилой [61]. Эта кара была направлена на то, чтобы сломить русскую католическую общину, которая находилась на подъеме: в 1923 г. «ее пополнила целая группа представителей интеллигенции, начал функционировать богословский кружок, расширилась благотворительная помощь и т. д. Вся эта деятельность была прервана карательными органами» [62].
Репрессии также обрушились на московскую общину сестер Третьего доминиканского ордена, руководимую сестрой Екатериной Сиенской (Анна Ивановна Абрикосова [63]), отношения с которой у Юлии были далеко не безоблачные. Нам известно об этих отношениях только из статей доминиканца Амброзиуса К. Эшера, который основывается на воспоминаниях Юлии Данзас [64] (которую Эшер странно называет «сестра Истина») и о. Дмитрия Кузьмина-Караваева (см. главу VII), местонахождение которого в настоящее время не известно. Между июнем 1923 г. и началом 1924 г. Юлия четыре раза на короткое время приходила в общину А. Абрикосовой, насчитывавшую 25 сестер (из них 13 полек), расположившуюся в пятикомнатной квартире, где служили литургию по славянскому обряду с некоторыми латинскими элементами. Критика Юлии, с согласия настоятельницы, имевшей доступ к личным дневникам сестер, относилась к деспотическому характеру А. Абрикосовой (что подтверждал епископ Шептицкий), отсутствию платков на головах [65], «ненависти» к Православной церкви (опровергаемой Д. Кузьминым-Караваевым) и вообще «сектантской обособленности». Интересно отметить, что Юлия, сама пережившая мгновения мистического экстаза (см. «Неизреченное»)*, подвергает сомнению пережитые одной из сестер экстазы, приписывая их состояние костному воспалению и напоминая о предостережениях святой Терезы Авильской молодым монахиням. Юлия относится с сочувствием к сестрам, духовно подчиненным своей матушке и ею эксплуатируемым или больным. А в письмах сестры Екатерины (Абрикосовой) не содержится никакого осуждения Юлии [66]. А. Эшер объясняет неприязнь Юлии к московским сестрам ее трудным, «шероховатым» характером и высокой культурой [67]. Может быть, о них и пишет Юлия в автобиографии 1932 (?) года:
«Двухлетнее общение с „восточниками“ [католиками славянского обряда] принесло ей полное разочарование в них и в их будущности. С весны 1923 г<ода> она окончательно порвала с ними, была даже во враждебных отношениях с ними и осталась просто католичкой-латинкой, какой и должна была быть по рождению» (Грачёва. С. 157).
Вся деятельность Юлии в послереволюционные годы представляла собой лишь видимую публике сторону глубоко мистической и терзаемой противоречиями личности, что раскрывается в ее неизданных дневниках.
«Наедине с собой» (продолжение): «Путь исканий завершен. Я – монахиня» (1921)
В дневнике за 1921 г. задним числом анализируется разрыв, произошедший в жизни Юлии, который почти никак не предчувствовался из предыдущих страниц и о котором ее занятия (работа в Институте имени Герцена, в Публичной библиотеке, в Доме ученых, в издательстве «Всемирная литература») не позволяли догадываться. Юлия, наконец, «нашла дорогу в жизни, которую искала так давно и так страстно!» – как Святой Августин, чьи «Исповеди» уже давно стали ее настольной книгой. «Смысл жизни, наконец, найден». Юлия осознала направление пути, который должен был привести ее к отречению от мира: с ранних лет она остро ощущала тайну всемирного страдания, всегда стремилась к подвигу, это объясняет ее службу в армии, а позднее – в «воинстве Христовом»: между прочим, часто бывая при дворе, она видела своими глазами ложь под светским блеском, и это окончательно отвратило ее от высшего света.
«1 Января 1921 г.
Непривычное чувство успокоения, умиротворенное ожидание грядущего, со спокойным, ясным сознанием того, что в моей жизни совершился окончательный перелом и раскрылся, наконец, истинный жизненный путь. Истинный, конечно, не для всех, а для немногих, и в том числе для меня. Теперь мне понятно, почему я так часто чувствовала свое одиночество и отчужденность от мира, хотя сама отдавалась этому миру с таким страстным увлечением, хотя сама жила такой бурной, многогранной всесторонне богатой жизнью. Где-то в тайниках моей души всегда раздавался таинственный призыв к „единому на потребу“ [1], хотя перестала я его слышать уже в юные годы и свою детскую мечту о монашестве вспоминала только как ребячество.
Я это писала в юные годы, когда этот „призрак“ как-то рассеялся, когда не чувствовала я его больше возле себя и не слыхала более слов манящего призыва, который пыталась выразить в этой своей автобиографической поэзии.
Помнится, эта поэма и осталась незаконченной. Быть может, именно потому, что, хотя я старалась себя уверить, что все это лишь „ребячество“, детские грезы, с трудом воскрешаемые в памяти, – но все же где-то в глубине души раздавался неумолчно этот призыв, хотя и не воспринимаемый сознанием, – где-то таилась уверенность в истинности призвания, лишь временно забытого.
Эта уверенность ныне воскресла; этот призыв ныне раздается звучит громко и властно и подчинил себе мое сознание и мою волю. Я теперь знаю, что нет мне иного пути. И с первых шагов на этом пути, с первого момента произнесения предварительного обета, я почувствовала ту радость облегчения, которая дается путнику долго плутавшему в зимнюю ночь среди снежной вьюги и, наконец, нащупавшему первые вехи знакомой дороги, наконец, увидевшему первое далекое мерцанье огоньков родного дома.
Я знаю теперь и другое. Знаю, что можно любить жизнь и людей более горячей и чистой любовью именно тогда, когда уходишь от них. Ненависть, и злоба, и презрение кончаются там, где нет больше личной жизни, но для любви такого конца нет, ибо там, где кончается личная жизнь, начинается жизнь иная, именно в любви, ничем не омраченной. „Благословяйте, а не кляните“ [1] – это написано кажется именно для нас, уходящих от мира.
И прошлое любит особенной любовью тот, для кого нет настоящего, кто сам живет вне времени, ибо для монаха один год и двадцать лет равны, а мысль его сроднилась с вечностью. Мне понятна теперь психология средневекового монаха, занимавшегося преимущественно именно историей с любовью, так странно переплетающейся с бесстрастием.
И к грядущему особенное отношение, светлое, мирное, благословляющее, – там, где нет личных желаний и страстей, где все растворилось в одной любви и в ясном сознании, что все минует в свое время и что самого времени нет…