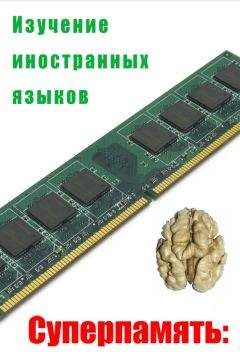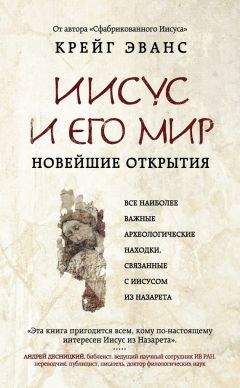Георгий Мунблит - Рассказы о писателях
Я был согласен. Больше того, мне вдруг подумалось, что наш разговор становится еще интереснее и серьезнее, чем мне представлялось вначале.
- И вот что я вам еще скажу, - промолвил Макаренко, сжав губы. Он иногда сжимал их в ниточку, отчего суховатое его лицо становилось еще замкнутее и суше. - Вот что я вам скажу. Не приходило ли вам в голову, что высшая профессиональность состоит именно в том, чтобы уметь без вреда для дела стать иногда выше этого самого профессионального к нему отношения? И, будучи во всеоружии знания и понимания в своей специальности, суметь взглянуть на вещи прямо и просто, вооружившись одним только здравым смыслом? Вы не согласны?
Я был согласен и с этим. Но мне не терпелось узнать, чем кончилось судебное разбирательство, в котором Макаренко сегодня участвовал.
- Чем кончилось? А тем, чем должно было кончиться. Решили совершенно правильно, - отвечал он на мой вопрос. - Приговорили к году условно. Что? Да нет... можете быть спокойны. Легче себе представить в роли взломщиков нас с вами, чем этих ребят во всю остальную их жизнь. - И, помолчав, Антон Семенович сказал доверительно: - Если же говорить прямо, то мое сегодняшнее выступление в суде я считаю одним из самых важных дел моей жизни.
* * *
Рассказав обо всем этом, я вдруг подумал, что суждения Антона Семеновича, высказанные им в совершенно частном разговоре, могут быть восприняты некоторыми теоретиками как новые начертания на педагогических скрижалях. Дело в том, что имя Макаренко очень часто упоминается как имя пророка и законоучителя. И за всем этим иногда забывают, что Макаренко был живым, горячим, размышляющим человеком, и далеко не все его рассуждения следует возводить в степень законов.
И еще одно. «Педагогическая поэма», помимо узко воспитательного своего значения, попросту великолепная книга, и это, пожалуй, не менее важно в ней, чем все остальное.
Это очень прискорбно, когда имена некоторых авторов, названия их книг и назидательно препарированный их смысл успевают навязнуть в зубах еще прежде, чем эти книги успеешь прочесть. Памятуя об этом, критикам вашим следует соблюдать осторожность не только в спорах с прозаиками и поэтами, но и в пропаганде их замыслов, не только в строгостях, но и в ласках.
Решительно, в способах, какими следует прославлять писателей, есть какая-то тайна. И если не знать здесь меры, даже от большого художника может остаться одно только имя.
Было бы очень прискорбно, если бы это случилось с Макаренко. Он ведь не виноват в том, что некоторым его последователям дороги не столько его сочинения и мысли, сколько возможность стать первосвященниками в храме, воздвигнутом в память о нем.
1959
ПОИСКИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
Это чувство знакомо всем, кто после долгих странствий возвращается в родные места. Все кажется меньше, бледнее и будничнее, чем представлялось в воображении. Приземистее, чем прежде, выглядят дома, более узкими тротуары, не такими раскидистыми деревья. И хоть я никогда не бывал прежде в Париже на улице Кардинала Лемуана, а только читал о ней в удивительной книге Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», я испытал это чувство в сильнейшей степени в тот сумрачный день ранней весны, когда мы с моей спутницей, пройдя несколько десятков шагов по узенькому тротуару этой самой улицы Лемуана, остановились перед домом № 74, у самой площади Контрэскарп, такой крохотной, что ее даже и площадью можно было назвать лишь с некоторой натяжкой.
Дом тоже был мал и невзрачен, узкий, четырехэтажный, обшарпанный, может быть и обычный в этом районе Парижа, но какой-то уж слишком неподобающий для памяти великого писателя, жившего здесь когда-то. Мы протиснулись в узкую парадную дверь с ржаво проскрежетавшей нам вслед пружиной и очутились в узеньком коридорчике, в котором, слева от лестницы, другая стеклянная дверь вела в квартиру консьержки. Но прежде чем продолжить рассказ о том, что за этим последовало, я позволю себе сказать несколько слов о моем отношении к экскурсиям такого рода вообще. Речь идет о посещении мест, которые хранят память о замечательных людях и будто бы с особенной яркостью вызывают в воображении их образ. Как мне ни прискорбно в этом сознаться, но я почти не испытываю при этом приличествующего случаю священного трепета. Мне представляется, что лучший способ «прикоснуться» к писателю - это лишний раз перечитать его книги. Что же до мест, где он жил и работал, то они, как мне кажется, заслуживают внимания лишь в том случае, если сами по себе чем-либо примечательны.
Поэтому, войдя в дом, где в двадцатых годах Хемингуэй прожил, по собственному его утверждению, самые трудные и самые светлые дни своей голодной беспечной юности, я не собирался разыскивать бывшую его квартиру, где теперь, вероятно, жили десятые по счету жильцы. Целью моей было побродить по узким уличкам Монпарнаса, судя по всему почти не изменившимся за последние сорок лет, побеседовать с теми из их обитателей, которые еще помнят писателя, а главное - попытаться ощутить ту атмосферу праздника, о которой писал Хемингуэй и которую, как он утверждал, ему удалось сохранить на всю жизнь.
Итак, постояв минуту у стеклянной двери консьержки в расчете на то, что она заинтересуется нами, и установив, что множество раз описанное любопытство представительниц этого сословия сильно преувеличено, мы сами постучались к ней и вошли в маленькую комнатку, где за покрытым клеенкой столом сидели сама хозяйка квартиры, ее муж и их сынишка лет шести, тихонький благонравный мальчик с очень городским цветом лица и большими грустными глазами.
Взрослые были заняты делом - наклеивали пестрые фирменные значки на белые целлулоидные каскетки, предназначавшиеся, как мне объяснили, для разносчиков рекламных плакатов. Работа, видимо, была срочная, потому что, отвечая на вопросы моей спутницы и мои, которые она им переводила, консьержка и ее муж ни на мгновение не прерывали своего дела.
Из ответов же их сразу выяснилось, что мы в своем любопытстве не одиноки. Оказывается, некоторое время назад в одной из парижских газет появилась заметка о доме на улице Лемуана, и теперь нашу собеседницу буквально осаждают любопытные почитатели Хемингуэя. К сожалению, ничего интересного ни им, ни нам она сообщить не может, так как работает в этом доме недавно и об американском писателе, жившем здесь когда-то, услышала только теперь, после появления заметки в газете. Кстати, фамилию этого неизвестного ей писателя консьержка произносила на французский манер - Эминуэй, - и это была, пожалуй, единственная любопытная подробность, какую мне удалось извлечь из знакомства с нею. И только когда мы совсем уже собрались уходить, она вспомнила, что в их доме есть один человек, живущий здесь еще с времен Хемингуэя. Услышав это, моя спутница торопливо перевела мне сообщение консьержки и сразу же закидала ее вопросами.