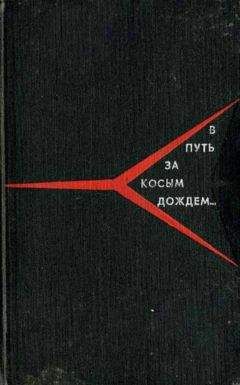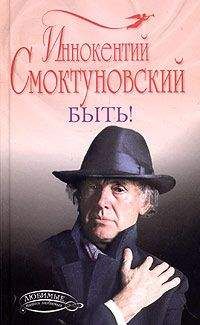Иннокентий Смоктуновский - Быть!
Где, какой из малышей посадит в санки пса, а сам до боли, до того, чтобы потом отогревать дыханием ладошки, смеясь и плача (смятение и смешение чувств, как видно, давно родилось на Руси!), начнет его катать, как Сивка-бурка? Она же, Жучка, уверен в этом, будет восседать с милейшей умной мордою, как если б так и надо, словно понимая, какой дает для Пушкина сюжет, чтоб тем России суть полней представить (не случайно Жучку курсивом Пушкин написал).
Все матери равны-похожи. Они повсюду готовы жизнь отдать за чад своих. И тем не менее здесь – наша мать, моя. В усердии своем в заботе обо мне сто крат прервет мое занятье, надоест, поизмотает нервы; успеет пригрозить по-доброму в окно, не выходя, однако, на мороз, так как забот и по дому хватает; но все же, улучив минуту, на улицу посмотрит, чтоб убедиться: все ли там на месте и как я там?..
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов…
Не о себе ли написал он эти строки?
Не знаю, какое из грядущих поколений настолько будет одухотворено, что сможет встать вровень со смысловой уплотненностью при вольготно-спокойных ритмах и философско-психологических обобщениях его письма?
Какое уж там «современник», когда каждое новое поколение (а затем и последующее и т. д. и т. п.) с той же легкостью, если не с большей, и с большим правом завоеванного сможет привлекать его в свои современники!
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…
Ну-ка, современные!
Учиться. Учиться постигать и брать нам у него богатство языка, поэзии пиршество, плоды огромного ума и вдохновения, истинность поступков, непреклонность и открытость взглядов, гордыни светлой мощь, самозабвенное служение правде, людям и добру, высоких чувств невысказанный вздох и ненависть глухую к компромиссам…
Ну а о главном – самом главном в нем – словами нашими, хоть и заимствованными из лексики его, сказать совсем непросто. Здесь нужно, чтобы говорило сердце: ему лишь одному и внятно все и зримо (и если я пишу об этом, то мне диктует именно оно).
Возьмем любой набор простых, обычных слов. Нет, кажется, в них ничего такого, что б отвергало иль, напротив, поражало вниманье, сердце наше наповал. Но они содержат мысль (слова ли то, что мысли не содержит?), и злобу дня, и модные проблемы. В них есть упругий ритм и рифма не грешит – все есть (способностей не занимать нам!) Поэты-песенники, былинники и просто скоморохи, прапрапредки сегодняшних актеров – всем этим Русь со глубины веков и славна и полна. И это – так. Иначе б не было ни русской песни, ни действ пещных, ни прочих добрых игр: Ивана же Купала, и Масленица с ним, и Рождество Христово – из ярких, сочных праздников народных перекочевали б в серое ничто. И не было бы «Слова о полку Игореве» – этой нашей «первой печки», от которой «танцуем мы вприсядку и всерьез…»
Все есть…
И вместе с тем порой неловкость чувствуешь, услыша складный и красивый тот набор и слов простых, и звуков умных. Пусть не всегда бывает так, но, в общем-то – увы! – бывает; и много реже бывает все наоборот. А чаще: «Не то… не то…»; иль вы не в духе нынче: кого-то вроде жаль; и неудобно почему-то; как если бы вы вспомнили поступок свой дурной или нелепый – и краскою стыда вас обожгло до вздоха. «Не за себя ли?» – искренне все силимся спросить. Не знаю, может быть, и за себя (так – легче).
Исчерпывающе простых ответов нет.
Канон хрестоматийный отметая, берешь его, листаешь…
Примерно тот же слов набор, что прежде: обычных и простых, но только – только! – расставленных в иную мысль и место – и льющихся по-своему! Все разом освещается, живет и дышит поэзии Божеством. Без потуг, без схваток родовых течет музыка слов и чувств, и мыслей – и ты уже захвачен им и пьешь живой родник, как путник, наконец дошедший до влажного оазиса в пустыне, как хорошо, и просто, и полно.
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Какая легкость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог…
Так мы, живущие сегодня, из поколенья в поколенье, поем поэзию его и славим память «печальную и светлую» о нем самом.
1973 г.
«Берегись автомобиля»
Браться за работу над образом Юрия Деточкина было соблазнительно в силу необычности этого характера и его поступков, но одновременно и тревожно. Что это – трагикомическая роль? Не скрою, после князя Мышкина, Куликова в «Девяти днях одного года» и Гамлета хотелось шагнуть в область нового, но что там, в том мире смеха и слез? Вдруг будешь не только скучным, не только смешным, но, самое страшное, неживым, неестественным? Вдруг в погоне за жанром, комедией, в старании быть обязательно смешным потеряешь главное – человека? Я четко понимал, что в подобном материале – это провал. Много раньше, в театре, я довольно часто играл всяческих комедийных мальчишек, и это вроде бы получалось. Но то совсем иное, то был юмор представления, эксцентрики, юмор острых театральных мизансцен, движений и каких-то актерских, да и режиссерских выдумок, «штучек-дрючек» – так в нашей среде принято называть такое.
В кино же, а особенно в таком образе, как Деточкин, подобный юмор был невозможен. Он худо сказался бы не только на образе, но просто пагубно и на самой идее фильма. А кроме того, сама фигура Деточкина в сценарном прочтении не только не находила во мне симпатии, но казалась чудовищно неправдоподобным вымыслом.
– Где же это он брал такую уйму свободного времени, счастливец? Работая в страховой конторе, он еще должен был выслеживать жуликов, включать их в своеобразную картотеку, затем красть автомобили и сбывать их в других городах, возвращаться обратно, оформлять «документацию», связанную с только что завершенной командировкой, и через какое-то время все то же самое и сначала.
Его поступки представлялись мне спорными настолько, что, прочтя повесть, я не понимал, как можно или, вернее, как должно воплощать этого чудака, чтобы кинематографическое изложение сюжета не носило характер анекдота, хорошо рассказанного, но все же анекдота. Герой с такими-то поступками? Явное комикование. Пугало все, особенно жанровость, плотность ее, граничащая с чрезмерностью.