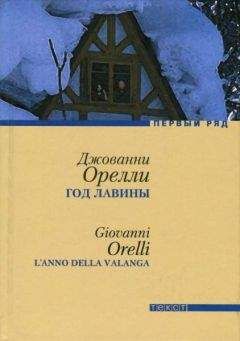Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Внешним толчком к написанию этих стихов, как отметил в автокомментарии сам Ходасевич, послужил ливший весь день дождь: «5–30 октября. Днем промок у Смоленского рынка. 30 только отделал».
Эти стихи Ходасевич впервые прочел в салоне богатой московской меценатки, купчихи Лосевой, за ужином. Брат его жены литератор Георгий Чулков тут же упрекнул его в пораженчестве, может быть, и не в связи со стихами. Знаменательна реминисценция из Тютчева (которым, кстати, занимался Чулков): «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые…» — так сказано у Тютчева. Ходасевич вступает с Тютчевым в поэтическую полемику. Для него роковой, «страшный час» эпохи — не радость, а горе.
Летом 1916 года по совету врачей больной Ходасевич уезжает в своем гипсовом корсете в Крым, собираясь поселиться под Севастополем, в имении приятельницы Нюры Гунали. Но денег опять, как всегда, нет, ехать не на что. Правда, что-то обещает выплачивать ежемесячно брат Михаил, популярный в Москве адвокат. И все-таки поездка едва не сорвалась: обещавший выплатить 100 рублей редактор газеты «Утро России» А. П. Алексеевский уехал, так и не выдав аванса. В этой плачевной ситуации Ходасевич, конечно же, обращается к своему старшему надежному другу Гершензону, пишет ему с просьбой достать 200 рублей, иначе в Крым не уехать: надо еще заплатить за квартиру, оставить денег жене: «<…> Если я не выеду, то не выеду никогда — так сложились дела. <…> Простите, что я Вас утруждаю так назойливо. Но люди, которых я знаю, состоят или из таких, которые могут, да не хотят, или из таких, которые хотят, да не могут. Вы — буквально единственный доброжелательный и не беспомощный человек из всех, меня окружающих. К братьям я не могу обращаться: они лишат меня и того, что обещали, я их слишком хорошо знаю. Кроме того, я в таком состоянии, что говорить с ними для меня невозможно. Старший решил кое-что сделать, когда посторонние люди (без моего ведома) его пристыдили. Больше его и стыдом не проймешь: упрется, и мы рассоримся. Он сказал однажды: „В чужом несчастье не люблю принимать никакого участия, даже в виде облегчения. Зато приятно участвовать в успехе“. <…> Это реальная политика, тут целое миросозерцание, которой и лбом не прошибешь».
Милый и заботливый Гершензон деньги, конечно, достает, и Ходасевичу удается уехать. Он собирается заняться в Крыму переводом с французского романа Клода Тиллье «Дядя мой, Веньямин» и, таким образом, вскоре по возвращении долг вернуть.
Волею судеб (или из-за неудачного железнодорожного расписания) Ходасевич попадает в Коктебель, а не в Севастополь, и слава богу: к Гунали приезжает в это время какая-то больная волчанкой барышня. В Коктебеле он поселяется на даче Мурзакова — не в доме Максимилиана Волошина, где обычно живет большинство литераторов, приезжающих сюда, а в некотором отдалении, как ему и хотелось, от здешнего литературного мира. Пока он еще не в силах приняться за работу: приходит в себя, бездельничает, нежась у моря.
В письмах Нюре он подробно рассказывает о своей тамошней жизни. Он скучает без Нюры, он привык к их устоявшемуся семейному укладу и сообщает ей буквально все подробности о себе, которые она, конечно же, хочет знать, требует таких же подробностей и от нее, постоянно объясняется ей в любви. Вот одно из первых его писем:
«Коктебель 7 июня <1>916.
Милый Мышь,[1]
сегодня я прожил здесь первый день. Вот он в подробностях.
Встал я в 9 часов. Выпил бутылку молока и съел целый хлеб. <…>. В 11 часов пошел к морю, и там сидя, лежа, стоя и еще как-то проваландался до часу. В час пришел, лег и проспал до 2½. В 2½ пошел обедать. Вернувшись, уселся в саду на солнышке. И тут в 5 минут случилось то, чего не случилось утром за 2 часа: я сжег себе обе руки. Стали они гнусно лилового цвета и болят отчаянно от кисти до локтя. Волдырей нет.<…> Тут зашел за мной человек, который, собственно, и привел меня сюда, видя мое отчаяние. Это мой спутник по купэ, москвич Н. X. Херсонский, учитель математики и философ по профессии. Ему 44 года, очень умен и мил. Я с ним буду водиться. Ну, с ним мы пошли к морю и просидели там до 7 часов. Тут случилась беда: из-за холмика наехали на нас четыре коровы с ужаснейшими рогами, а потом и хуже того: Мандельштам!
Я от него, он за мной, я взбежал на скалу в 100 тысяч метров вышиной. Он туда же. Я ринулся в море — но он настиг меня среди волн. Я был вежлив, но чрезвычайно сух. Он живет у Волошина. С этим ужасом я еще не встречался. Но не боюсь: прикинусь умирающим и объявлю, что люблю одиночество. Я, черт возьми, не богема… <…>.
Испугавшись Мандельштама и ветра, я надел бархатную куртку и пошел ужинать. Теперь вернулся, пью парное молоко и пишу тебе. <…>
Здесь просто. Ходят в каких-то совершенных отрепьях. Купаются в чем попало. Одна тетя купалась сегодня совсем босиком.
Будь здоров. Целую тебя и люблю. Владислав.
P. S. <…> За 4, 5, 6 и 7 числа я выкурил 90 папирос, — больше в дороге. Курю очень мало. Ай да умник!»
Видимо, в ответ на это письмо Нюра пишет 14 июня из Раванты, где в это время отдыхает, — финского имения Дидерихса, мужа племянницы Ходасевича Валентины, близ поселка Раухала:
«Счастье мое ненаглядное! <…>
Слава Богу, что ты кушаешь, — ради своего мыша кушай побольше. Уже того учителя математики я люблю, п<отому> ч<то> вижу, что он тебя полюбил. Мандельштама не чуждайся — он должно быть несчастный. <…>
Ловлю рыбу — увы! мне это нравится. Часто говорим о тебе.
Ночью я сплю не очень хорошо — должно быть потому что ты меня не крестишь, но надеюсь, это пройдет. Я тебя очень люблю.
Пиши мне, мой золотой. Целую тебя крепко. Валя тоже. Твой мышь».
О Мандельштаме Ходасевич в письмах этого лета постоянно отзывается иронически, воспринимая лишь его человеческую чудаковатость и как-то не вникая в его стихи и не оценив их. 18 июня он пишет Нюре:
«<…> Здесь живет Максимилиан avec son mère,[2] Мандельштам и Шервашидзе, художник. Вижусь с ними мало. Был у Макса вчера, просидел час, днем, конечно. Он тебе кланяется. Удивился, что я без тебя. Вспоминал юные годы. Мандельштам дурень; Софья Яковлевна (Парнок. — И. М.) права. Просто глуп, без всяких особенностей. Пыжится. Я не сержусь. <…>».
Московскому приятелю Борису Александровичу Диатропову он, правда, сообщает: «В числе моих ближайших друзей — Максимилиан Волошин и Осип Мандельштам».
Мандельштам позднее, в своем очерке 1922 года «Шуба», напечатанном в газете «Советский юг» (Ростов-н/Д), напишет о Ходасевиче тоже без особой приязни, называя его поэтический голос «негромким, серебряным, старческим», но при этом признавая, что он «подарил нам несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь». Ходасевича называли в шутку «старичком» и в детстве; его внешнюю сдержанность и сухость часто принимали за старость души.