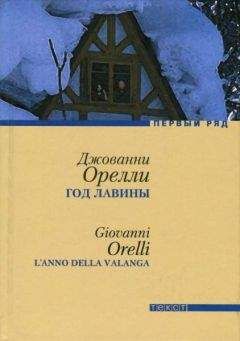Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Позже, через два года, 3 января 1918-го, написано стихотворение «Ищи меня», неожиданно светлое и прозрачное. Ходасевич записал в комментарии к нему: «3 января. Это — о Муни. Он звал меня своей женой. Стихи — как бы к женщине».
Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь — как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он — вот, он есть, я был.
Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простертые в текучий пламень дня.
Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Еще одно усилье для меня —
И на концах дрожащих пальцев, тайно,
Быть может вспыхну кисточкой огня.
Стихотворение — как заклинание, оно — на грани осуществления невозможного. Оно — о нерасторжимости давней дружбы, о незримом, постоянном присутствии умершего здесь, в жизни, рядом…
Чувство вины, возможно, всю жизнь не оставляет Ходасевича. Оно отчетливо слышно в стихотворении «Лэди руки долго мыла…» и в эмигрантском «Лежу, ленивая амеба…» из цикла «У моря», и в написанных в Петербурге «Сумерках» — об убийце в переулке: «И будут спрашивать, за что и как убил, — / И не поймет никто, как я его любил». Ходасевич видит себя то Каином, предавшим брата, то леди Макбет — убийцей мужа. Он никогда не снимет с себя ответственности за эту смерть.
Лэди долго руки мыла,
Лэди крепко руки терла.
Эта лэди не забыла
Окровавленного горла.
Лэди, лэди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.
Стихотворение написано 6 февраля 1922 года — почти через шесть лет после гибели Муни.
«Эта смерть тяжело отозвалась на В. Ф., — писала Нюра в воспоминаниях. — Он очень любил Муни, которого можно было назвать его единственным другом, и он очень мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой смерти… Опять у В. Ф. начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций, и очевидно и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муни в своей квартире…»
Можно считать, что именно тогда произошел серьезный перелом в душевном состоянии Ходасевича.
В стихотворениях 1916–1917 годов слова «смерть», «мертвый» и иносказательный образ смерти встречаются постоянно.
<…> Не странно ль жить, почти что осязая,
Как ты близка? <…>
Еще томят земные расстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознанье,
Что ты близка.
Все это — о смерти. Мысли о смерти не оставляют его, она всегда где-то рядом; она, вынесенная за скобки, — вечный мотив тех лет…
Обо всем в одних стихах не скажешь.
Жизнь идет волшебным, тайным чередом,
Точно длинный шарф кому-то вяжешь,
Точно ждешь кого-то, не грустя о нем.
Нижутся задумчивые петли,
На крючок посмотришь — все желтеет кость,
И не знаешь, он придет ли, нет ли,
И какой он будет, долгожданный гость.
Утром ли он постучит в окошко,
Иль стопой неслышной подойдет из тьмы
И с улыбкой, страшною немножко,
Все распустит разом, что связали мы.
В стихах этих есть что-то тихое, домашнее, покорное — словно рядом сидит Нюра и вяжет, действительно вяжет этот длинный шарф — жизнь. Они и были написаны «в альбом А. И<ванов>не (Нюре. — И. М.), по ее просьбе». Смерть здесь мужского рода, названа «долгожданным гостем», но есть в этой покорности и монотонности вязанья что-то действительно страшноватое, «страшное немножко».
Ходасевич, постоянно размышляя о смерти, обращается и к своему любимому Пушкину, примеряет его отношение к смерти на себя, следит, как менялось его восприятие смерти в юности. Об этом свидетельствуют записи из архива Ходасевича.
Стихи о смерти возникали не только, так сказать, метафизически — к ним подталкивала иногда, подкидывала сюжет и сама жизнь. Вот они едут весной 1914 года, на рассвете, из ночного ресторана с Нюрой и актером (позднее режиссером) Игорем Терентьевым по любимому с детства Петровскому парку, и вдруг — мертвое тело самоубийцы на ветке дерева и под ним, внизу — молчаливая кучка людей. Это было еще до гибели Муни. В стихах, написанных уже в 1916 году, буквальный, страшный смысл произошедшего становится символом грядущих бед:
Висел он, не качаясь,
На узком ремешке,
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впивались ногти
На стиснутой руке.
А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И перед этим солнцем,
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.
И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.
Мертвец словно видит что-то, невидимое, неведомое оставшимся в живых…
И Ходасевич, подобно ему, несмотря на свою отрешенность от житейского, видит и чувствует грядущее, скрытое пока еще от многих, но интуитивно доступное поэтам. Российская и мировая жизнь становятся все тревожнее. Уже началась Первая мировая война… И все это так или иначе перетекает в стихи, но получает иное, более обобщенное осмысление.
В 1916 году появляются «Слезы Рахили» — стихотворение певучее, как плач, и, благодаря библейскому образу вечно плачущей по своим мертвым детям Рахили, переходящее в область вселенского горя.
Мир земле вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождем иду я неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поет нам дождь неуемный
Про древние слезы Рахили.
Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат —
В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горючие слезы Рахили.
Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько 6 песен мы ни сложили —
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слезы Рахили!
Внешним толчком к написанию этих стихов, как отметил в автокомментарии сам Ходасевич, послужил ливший весь день дождь: «5–30 октября. Днем промок у Смоленского рынка. 30 только отделал».