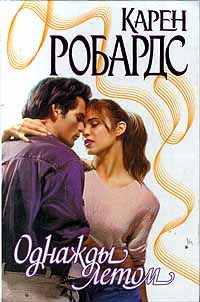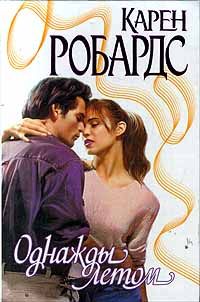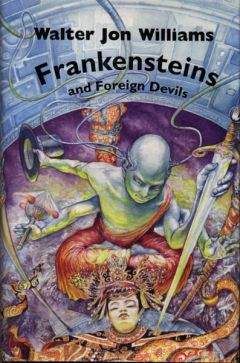Борис Львов-Анохин - Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания
Годы, и в буквальном смысле «павшие» на юность и молодость автора «Завещания», стали едва ли не самыми позорными в истории России.
То, что случилось сразу же после невиданного взлета национального самосознания, увенчавшегося выходом интеллигенции на Сенатскую площадь, было столь же ошеломляющим по уровню нравственного падения: именно тогда, по воспоминаниям Герцена, «явились дикие фанатики рабства, одни — из подлости, а другие хуже — бескорыстно».
Клевета, измена, каменное равнодушие, назвавшиеся «благонамеренностью», сгустились до туманности, из которой выступила зловещая фигура.
По «небу полуночи» юного поэта, где прежде летал с «тихой песней» его Ангел, теперь молча летел холодный, как сама смерть, Демон.
Что-то необратимое происходило с этим поколением, с самим поэтом; какая-то ржа разъедала их изнутри, весь мир начинал раздваиваться: за спиной у Нины стоял, дыша ядом, Арбенин; лучшие колосья падали, не успев созреть.
1841 год стал для Лермонтова годом ухода; для автора моноспектакля о Лермонтове век спустя — годом прихода: ровно сто лет минуло с тех пор, как навсегда захлопнулись двери за первым и распахнулись перед вторым.
Здесь будет много почти фантастических совпадений: совпала «группа крови» эпох, самих натур. И это определило все. Главный и мучительный вопрос русской интеллигенции «о границах свободы и зависимости» (Лев Толстой) стал главным и для поколения Олега Даля.
«Весь моноспектакль от начала до конца произвел на меня потрясающее, переворачивающее душу впечатление. Олег Даль сумел в этом спектакле стихами великого поэта раскрыть трагедию своей личности и драму своего поколения. В созданном им спектакле — горькое обвинение времени и обществу, в котором он жил, беспощадный суд над собой и своим поколением: над его слабостями, уходом от тяжелой борьбы с бюрократией, ложью, приспособленчеством. Особенно потрясает глубокое душевное одиночество этого талантливого человека, неутолимая жажда доверия, понимания, трагическое переживание своей неосуществимости, невысказанности.
По своему возрасту я отношу себя к поколению Олега Даля. Его моноспектакль, как его завещание художественное, является, на мой взгляд, не только ценностью искусства, но и одной из составных совести нашего поколения, совести болезненно честной и жаждущей справедливости, социального действия.
И. Элентук, г. Томск».…Нет, неправда, что мы ничего не знали о нем: не зная подробностей, мы догадывались о главном — Даль из тех, кому почти всегда плохо, ведь такие, как он, первыми бьют тревогу, когда на море еще штиль и небеса лазурны.
Его участь была написана на его твердо очерченном лице с прозрачно-чистыми глазами и беззащитной улыбкой. В нем были душевная изысканность и высокое чувство чести.
Как его любимый поэт, он выходит на дорогу один; его сражение со злом происходит скрыто, в душевной глубине, и это одиночество художника у Олега Даля — почти вселенское.
Среди живой жизни миров и говора звезд он тем горше чувствует свою опустошенность и смертельную усталость, ибо всегда на дороге один.
Бездарная, претенциозная, полная презрения к «отеческим гробам» публика. Мелкотравчатая, циничная журналистика… Слушая Даля, мы видим их, эти убогие лица, пустые глаза, напыщенные жесты…
Душевная эволюция, которую переживает Лермонтов в моноспектакле Олега Даля, душевная эволюция самого исполнителя — почти осязаемы.
Он, точнее, они бьются со своим неизбывным Демоном в полной тишине, не слыша ни единого отзвука, ни намека на эхо, отдавая каплю по капле свою кровь за звуки небесной гармонии, не утоляющей острой душевной тоски.
В момент наивысшего отчаяния, кульминационный для передачи, когда силы героя на исходе и он бросает жизни, как врагу, перчатку, происходит невероятное.
Его душа начинает расти, расширяться, как некая новая Вселенная. Она поднимается ввысь, пролетая птицей над лесами и степями, над их молчанием, их колыханием, становясь равновеликой им, и тогда вместо яростного «ненавижу», возникает «люблю…».
В «Великом муже», «Завещании» приоткрывается тайна столь же «странной», как и любовь к Отечеству, любви Лермонтова к человеку. Здесь Даль словно ставит — лицом к лицу — напротив черного портрета, написанного «Думой», иной — светлый, сияющий, — но чей же?
…Мы скоро начнем забывать, если не спохватимся, о тех, кто своими нечеловеческими усилиями приблизил то, что вошло сегодня в нашу жизнь. Мы начнем забывать, если не захотим помнить, о той поре, когда просто оставаться самим собой, не подличать, быть порядочным человеком составляло гражданский поступок, о духовном подвиге тех, кто в бесчеловечные времена выбрал себе любовь.
Умирает простой солдат, и у Лермонтова перед этим огромным событием меркнет все: собственные душевные метания, боль за потерянное поколение, «волшебная флейта» искусства… Все и вся меркнет перед величием этой души, потому что ее любовь простирается за черту жизни.
С этой нравственной высоты все вещи получают наконец истинные масштабы, а облик того, кто уходит так кротко и величаво, обретает былинный размах. Только он один — бесконечно одинокий, умирающий без единого слова проклятия, но со словом прощения, — в силах сокрушить мертвящую силу безверия, искупить какую-то огромную вину всех перед всеми. Именно этот тихий и ни с чем не сравнимый подвиг будет оценен — верит Поэт, а с ним автор моноспектакля — «поздним потомком», по нему только одному справит он свою «блистательную тризну».
Душа наконец освободилась от казавшегося бессмертным Демона, словно кто-то сомкнул единым движением разомкнутую было цепь, и по ней мощно и необратимо пошел ток.
Рассказывает С. Филиппов, сотрудник Государственного литературного музея:
— В 1983 году у нас в отделе звукозаписи раздался звонок: сообщили, что в Литературный музей принесли магнитофонную запись. Пленку передала вдова Даля, актер читает Лермонтова. Поехал туда, честно говоря, без особого энтузиазма: я знаю эти старые зашумленные пленки, да и что там еще нового может быть в Лермонтове? Прослушивание происходило по чистой случайности в бывшей трапезной бывшего Высокопетровского монастыря, где прекрасная акустика, и как только раздались первые звуки музыки, я понял, что пленка в ужасном состоянии. Но когда я услышал голос, меня как током пронзило — от этого невозможно оторваться.
Я не просто услышал голос Лермонтова — передо мной открылась огромная личность…
Это была кассета с пленкой, записанной на бытовом магнитофоне системы «мыльница». У Олега было только две кассеты, и он их гонял в хвост и в гриву. Он любил Самойлова, Левитанского, взахлеб читал Пушкина, но как только обратился к Лермонтову, уже никого другого не читал — это был его поэт.