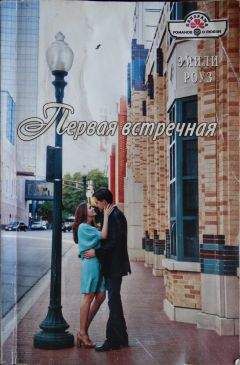Лиля Брик - Пристрастные рассказы
Часто спрашивал заинтересованно и недоуменно:
Отчего на свете столько зла
И какого вкуса жабье мясо?
Популярна была и с чувством пелась и долго продержалась песня:
Погоди, прэлэстница,
Поздно или рано
Шелковую лестницу
Выну из кармана!
Когда Маяковский пел это, мы были совершенно уверены, что он слегка влюблен.
Часто пелись частушки:
Я голошее не ношу,
берегу их к лету,
а по правде вам скажу, —
у меня их нету.
Ты мой баптист,
я твоя баптистка.
Приходи-ка ты ко мне
баб со мной потискать.
Часто песенка Кузмина в ритме польки:
Савершенно непонятно,
почему бездетны вы?
Маяковский любил ранние стихи Василия Каменского, особенно:
«Сарынь на кичку!»
Ядреный лапоть
Пошел шататься
По берегам.
«Сарынь на кичку!»
В Казань!
В Саратов!
В дружину дружную
На перекличку,
На лихо лишнее врагам!
Когда приехали в Петроград Пастернак и Асеев и прочли Маяковскому стихи, вошедшие потом во «Взял», Маяковский бурно обрадовался этим стихам.
Он читал Пастернака, стараясь подражать ему:
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега.
И асеевское:
С улиц гастроли Люце
были какой-то небылью,
казалось — Москвы на блюдце
один только я неба лью.
Маяковский думал, чувствовал, горевал, возмущался, радовался стихам — своим, чужим ли. В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, не переставал говорить о том, какой он изумительный, «заморский» поэт. С Асеевым Маяковский был близок. Мы часто читали его стихи друг другу вслух. В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблен, он знал его наизусть, долгие годы читал всегда «Поверх барьеров», «Темы и вариации», «Сестра моя жизнь».
Особенно часто декламировал он «Памяти Демона», «Про эти стихи», «Заместительница», «Степь», «Елене», «Импровизация»… Да, пожалуй, почти всё — особенно часто.
Из стихотворения «Ты в ветре, веткой пробующем…»:
У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.
Из стихотворения «До всего этого была зима»:
Снег все гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»
«Не трогать» — всё целиком и на мотив, как песню, строки:
«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась.
И память — в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.
На тот же мотив из стихотворения «Образец»:
О, бедный Homo Sapiens,
Существованье — гнет.
Другие годы за пояс
Один такой заткнет.
Часто Маяковский говорил испуганно:
Рассказали страшное
Дали точный адрес.
И убежденно:
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.
Все стихотворение «Любимая — жуть!» и особенно часто строки:
Любимая — жуть! Если[45] любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтам.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена — и безграмотно.
Он так читал эти строки, как будто они о нем написаны. Когда бывало невесело, свет не мил, он бормотал:
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.
Добрый Маяковский читал из «Зимнего утра» конец четвертого стихотворения:
Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.
Из «Разрыва» особенно часто три первых стихотворения целиком. И как выразительно, как надрывно из третьего:
…Пощадят ли площади меня?
О![46] когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченье дня
На ходу на сходствах ловит улица!
Из девятого:
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер.
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.
Почти ежедневно повторял он:
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Таскал за собой[47] и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Я уверена, что он жалел, что не сам написал эти четверостишия, так они ему нравились, так были близки ему, выражали его.
Пришлось бы привести здесь всего Пастернака. Для меня почти все его стихи — встречи с Маяковским.
* * *Крученых Маяковский считал поэтом — для поэтов. Помню, как он патетически обращался к окружающим:
Молитесь! Молитесь!
Папа римский умер,
прицепив на пуп
нумер.[48]
Заклинанием звучали строчки из «Весны с угощением»:
Для правоверных немцев
всегда есть —
дер гибен гагай.
Эйн, цвей, дрей.
«Эйн, цвей, дрей» вместо крученыховского «Клепс шмак».
Этим заклинанием он пользовался главным образом против его автора.
Часто трагически, и не в шутку, а всерьез, он читал Чурилина: