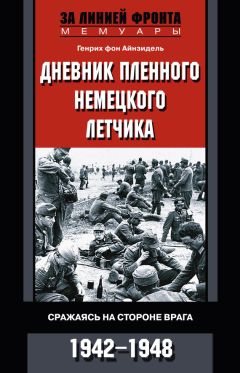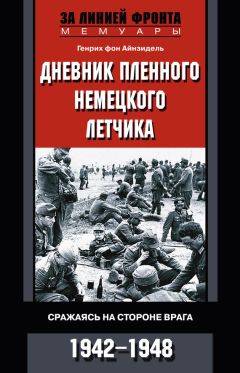Вагаршак Тер-Ваганян - Хачатур Абовян
Однако для основной массы мещанской интеллигенции определителем идеалов была почвенная буржуазия. Программу свою эта интеллигенция конструировала из потребностей буржуазного развития страны, а так как последнее было невероятно убого, то и идейная программа интеллигенции носила печать нищеты и убожества. Колониальная буржуазия жила одной социально-экономической жизнью с буржуазией великодержавной, ее интересы и воззрения находили себе выражение в рядах имперского буржуазного либерализма. Достаточно сравнить идеологов и представителей интересов колониальной буржуазии с идеологами местной армянской буржуазии.
Процесс формирования буржуазного сознания — диалектический процесс, он протекал с огромными внутренними противоречиями. В хаосе, из которого рождаются классы капиталистического общества, мы с большим трудом можем установить те зигзаги, которые намечают в самых общих чертах контуры грядущей классовой дифференциации.
Основные линии раздела, глубочайшие межи лежат между старым и новым обществом в целом. Понятия, выработанные, кристаллизовавшиеся в процессе поздней эволюции, последовавшего развития, могут быть применены к ранней поре весьма и весьма условно. Такой вывод неизбежно вытекает из признания эволюции демократического буржуазного сознания.
Нельзя утверждать, будто старые французские просветители или идеологи Великой французской революции были националисты в том смысле, как мы понимаем это выражение, хотя на самом деле они были пламенные патриоты и имели высоко развитое национальное сознание. Нельзя этого делать даже несмотря на то, что их патриотизм имел нередко очень ядовитые проявления.
Было бы нелепо сегодня объявить Пестеля идейным дедушкой Пуришкевича только на том основании, что он высказывал по еврейскому вопросу чудовищные вещи. Подобный вывод бессмыслен именно потому, что Пестель вовсе не углублялся в решение еврейского вопроса и его мнение по этому частному вопросу было неуравновешенностью мелкобуржуазного патриотизма. Вспомните, как Руссо гениально сказал: «Всякий патриот суров по отношению к иностранцам, они ничто в его глазах» — национальная идея в самые революционные периоды своей молодости носила в себе семена ксенофобии и каннибализма. Но она — национальная идея — играла известную, строго ограниченную положительную роль, когда, в общем контексте прочих демократических идей выступала поборником точки зрения народа против феодальных привилегий, точки зрения целого против дробного.
Национальное сознание стало националистическим сознанием не тогда, когда оно стало суровым и несправедливым к иностранцам — оно всегда было таким, — а тогда, когда оно откололось от прочих демократических идей и стало знаменем антидемократических новых властителей, иначе говоря тогда, когда экономическое развитие, классовая дифференциация привели к тому, что в недрах третьего сословия появилось пролетарское движение, взявшее на себя осуществление демократических задач совместными силами — рабочих всех национальностей.
Не следует меня понимать в том смысле, будто я схематизирую исторический путь одной из классических буржуазных стран и механически переношу общую схему на все народы, в какое бы время они ни вступили в период буржуазной революции. Нет! Когда в основных западных странах этот процесс закончился и период освободительных национальных войн завершился, всякая следовавшая нация оказывалась сразу перед фактом — быстрого превращения национального сознания в националистический обскурантизм.
Но до революции 1848 года все процессы шли чрезвычайно усложнение и дифференциация тянулась мучительно долго.
Так было в России, когда после декабристов десятилетия передовая русская общественная мысль мучительно — медленно искала путей дифференциации, принимала чудовищные формы идеалистической абстракции, буйные формы взрыва гегельянской диалектики, метафизические формы утопического социализма, чтобы на самом пороге 1848 года нащупать форму фейербахианского материализма, а тем самым приблизиться с наивозможной смелостью к пролетарскому демократизму.
Великорусская национальная идея при этом все далее отходит вправо, пока не кристаллизуется в мистически-юродивую философию Хомякова, историческая миссия которой состояла в том, что она взрыхляла почву для Каткова.
В армянской действительности этот процесс повторился, но протекая в уродливой форме, на примитивной стадии, ни разу не поднимаясь до уровня подлинно передовой теории, больших и сложных вопросов классовой борьбы. Десятилетие продолжалось это мучительное развертывание демократической идеи от Абовяна до Налбандяна. В этом, разумеется, лично никто не повинен и менее всего Абовян. Так мизерна была тогдашняя социальная действительность. Она снижала все вопросы до уровня элементарной, почти первобытной проблемы существования: и в экономике, и в политике, и в идеологии.
«Раны Армении» отражают это долгое время боровшееся за свое внедрение первобытное, первоначальное, упрощеннейшее демократическое сознание.
«Раны Армении». Идейный состав романа
Анализ идейного состава «Ран Армении» ясно покажет нам, что сердцевину романа составляют не национал-каннибалистические персофобские страницы, не идеи национальной исключительности, не национал-мессианизм. Элементы всего этого в романе имеются, но вовсе не они составляют лицо романа.
В сердце романа горит ярким пламенем другая идея — идея необходимости просвещением завоевать для Армении место в ряду культурных наций.
Это та самая просветительская идея, которая воодушевляла ранних демократов всех наций и за которую мы не имеем никакого основания упрекать Абовяна.
Я приведу из его предисловия к роману цитату, в которой автор рассказывает о своем желании помочь народу, о том, что он не знал, как это сделать, ибо не было книг, а имеющиеся «наши книги все на грабаре», а «наш новый язык не в чести». Все писали темным, непонятным языком невнятные вещи, никто не думал о народе, сам Абовян из желания щеголять знаниями писал на этом же мертвом языке стихи и прозу. Писал и мучился сознанием, что некому будет читать и понимать его. Принялся обучать детей — встала та же проблема языка.
«Сердце разрывалось, — рассказывает он, — какую армянскую книгу ни вручал им, не понимали. На русском, немецком и французском языках все, что ни читали, нравилось им, приходилось им по их невинной душе. Иногда хотел рвать на себе волосы, когда видел, что они чужие языки любят больше нашего. Но это было совершенно естественно: в тех книгах они читали вещи, которые могли людей увлечь, ибо увлекательные вещи, кому не будут любы? Кто не захочет знать, что такое любовь, дружба, патриотизм, родители, дети, смерть, борьба? Но если что-либо такое на нашем языке найдете — выколите мне глаза. Чем же можно внушить детям любовь к языку? Продай мужику изумруд, вещь очень хорошая, но если у него нет средств, он не обменяет кусочек пшеничного хлеба на этот драгоценный камень. Это не все. В Европе в иных книгах я читал рассуждения о том, что должно быть армянский народ не имеет чувств, если даже после того, как над его головой пронеслись такие события, не вырастил ни одного человека, который написал бы какое-нибудь произведение с чувством (сердечно) — все, что есть, о боге, о церкви, о святых[11]. А ведь дети под подушками держали книги язычников: Гомера, Горация, Виргилия, Софокла — ибо все о мирском. Можно было бы утверждать, что эти европейцы безумцы, что, оставив дела божьи, гонятся за такими пустяками, но это было бы глупо… Я хорошо знал, что наш народ не был таким, как его изображали они, но что делать?… Думал все, размышлял — ведь решительных людей среди нас были тысячи и теперь они есть, умных слов наши старики знают тысячи, гостеприимство, любовь, дружба, доблесть, видных лиц — всего у нас есть вдоволь, задушевными думами полна мысль крестьян. Басни, поговорки, острые слова — всякий даже самый невежественный расскажет тысячами. Что же сделать, чтобы наше сердце узнали другие народы, чтобы нас тоже хвалили, полюбили наш язык?»