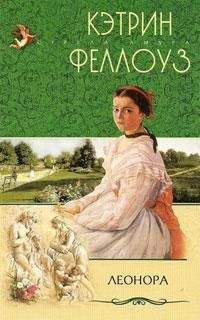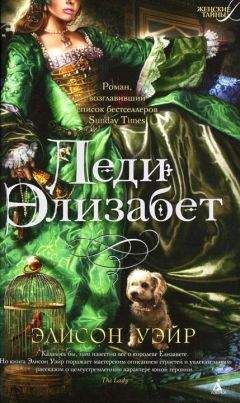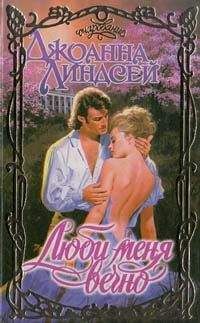Коллектив авторов - Любовные письма великих людей. Соотечественники
Ты понимаешь, мой друг, что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим, и мне поневоле приходится быть сдержанным. Но меня это не смущает: «безумное Божие умнее мудрости человеческой».
Прощай, моя дорогая. С надеждой на свидание всегда твой
Вл. Соловьев.
Позабыл о портрете. Если сохранился негатив фотографии, то пришлю тот, про который говоришь. А то сниму другой.
А. И. Эртель
(1855–1908)
У меня так и сидит теперь в голове скромный хуторок, да тишина, да природа вокруг – правдивая и безобманная, да любимая, хорошая, дорогая женка…
Эртель Александр Иванович, писатель, известный своими «Записками степняка», должен был в детстве еще пойти по стопам своего отца-мещанина, стать управляющим в господских имениях. Но неистребимая тяга к знаниям привела к знакомствам, перевернувшим всю его жизнь. Так он встречает чудака-купца, одержимого страстью ко всему новому и к чтению, знакомится с его дочерью, с которой вскоре завязывается «книжный роман», кончившийся свадьбой. Вместе с ней он переезжает в Петербург, где начинает свою писательскую деятельность. В нем же писатель встречает свою будущую вторую супругу М. В. Огаркову, на которой женится в 1885 г. Увлечение Эртеля второй женой совпало с его переломом в мировоззрении, что отражается во многих письмах к ней.
А. И. Эртель – М. В. Огарковой, впоследствии его жене
(Самара, 22 августа 1883 года)
…Не знаю, почему – один ли я остался, наедине с самим собою, перечитал ли я внимательно и вдумчиво «Исповедь» Толстого – повторяю, не знаю, отчего, но с самого Саратова я почувствовал, что я во власти новых каких-то мыслей, которые и прежде бывали у меня на дне души, которые и прежде вставали во мне, но прежде нерешительно, робко, смутно, тотчас же отступая и прячась. И вот теперь они пришли и взяли меня в свою власть… Мне стало ясно, что я всею деятельностью не то воду толку, не то просто мазурничаю. Я говорю – литературной деятельностью. И вот отчего мне это кажется. Когда-то, во время оно, во время моих первых писаний, так мне казалось ясно и просто все на свете, и так положительно знал я, где правда и где ее нет, что мне ужасно было легко писать мои очерки и ужасно было весело сознавать себя чем-то. Но теперь я вижу, что наивны эта бывшая моя ясность и бывшая веселость. Там, где я видел безоблачные горизонты, там теперь я вижу либо узкость, либо недомыслие… И вот с такими новыми мыслями, или, лучше сказать, с зачатками еще этих мыслей, вечером я пошел в Барыкинский вокзал. Я тебе, кажется, писал, что это за вокзал. Это высокое место, с которого Волга видна верст на 20 и где по вечерам бывает музыка. Всегда оттуда эта Волга производит на меня грустное впечатление. Но теперь я не скажу тебе, что она сделала со мной, эта Волга. Я тебе не писал в точности своих впечатлений; мне самому мысли мои были еще не ясны и казались простой хандрой. Но видишь ли, в чем дело: она, т. е. Волга, и музыка, и все в тот вечер – душу они мне перевернули. Всю мизерность свою, мелочность свою, ничтожность я понял. Как-то вдруг, сюрпризом. И это вечное притворство, что де я знаю, что я де источник истинной, «настоящей» правды знаю, и эту гордость, вытекающую от такого знания, и, кроме того, гордость свою учительскую – ту, которая проистекала от того, что я учу, пишу очерки, повести, фельетоны, – все я тут понял. И стал я тут совсем неуверенным. Да в чем же правда? – спросил я. В либерализме? Социализме? В политической экономии? И я не нашел ответа в своей душе. Я только нашел такой ответ, который, пожалуй, не вязался с вопросом: жил я, думал, делал ложно, и что ничего, ничего я не знаю и ничему, ничему не могу учить. И надо тебе сказать правду, Маруся, я жестоко плакал, когда возвратился домой. Плакал злыми, бессильными слезами. Вот такой я приехал сюда… Ждал жадно от тебя письма, не получил. И когда первые дни не получил от тебя письма, то вдруг перестал ждать и жадно стал читать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Исповедь»… И когда стал читать, снова и с новой силой увидал, что это не то, что я делал, и что тяжкая вина лежит на мне в той моей легкомысленности, с которой я писал и говорил, будто знаю, где правда, а на самом-то деле не искал этой правды. Вот видишь ли: я и читал, и в жизнь вглядывался, не правды ища, а подтягивая и книги, и жизнь все под ту готовенькую доктрину, которая как-то незаметно сложилась во мне с юношеских лет.
И мне стало ясно, что не могу я писать и не могу учить. Я тебе не могу передать во всей силе того отвращения, которое получил я к своим писаниям и к своей прежде законченной доктрине. Я только почувствовал, что ничего я не знаю и что недостает у меня бессовестности с этаким-то багажом писать мои очерки, фельетоны, повести…
Что мне делать с собой? Что? Вот этот один неотвязный вопрос мучает меня. Куда я гожусь – испорченный, изломанный этой всей жизнью своей, в течение которой я только и делал, что был самодоволен и воображал, что я делаю дело. И где это «дело»?
Вот в этих мыслях вся моя жизнь в Хилкове проходит. Наружно – я смеюсь, говорю о самых обыденных вещах, езжу с Матв. Ник. в поле, но когда расходимся спать часов с 9, с 10, – тут ложатся рано, – я остаюсь один в своей комнате и не сплю, а хожу, хожу без устали или читаю до глубокой полночи, с каждой страницей убеждаясь в своем бессилии, в своей узкости. Мучительно это! Когда приезжали из Сколкова, я оживал: ждал от тебя письма, но письма не было, и снова я погружался в эти думы свои. Я подводил итог тому, что я сделал, и в итоге получался ноль… Я сознавал там где-то, в глубине души, что силы есть у меня, но я не знал, как вызвать их наружу, эти силы, куда их направить. И с отчаянием чувствовал, что ничего я этого не знаю… Но я не мог сказать себе: живи, пока годишься, и смерти жди… Потому не мог сказать, что жажда жизни-то ни разу не утихала во мне, и всем существом своим я ощущал эту жажду, эту потребность жить… Наконец, в который-то раз были из Сколкова и не привезли от тебя писем. Я точно от сна очнулся. Я счел дни и увидал, что письмо должно было быть, что я тебя просил написать поскорей, поскорей… И беспокойство, загоравшееся во мне, на время отогнало мои мысли: я решил дать тебе телеграмму и кстати уж съездить самому в Самару, ехать туда нужно через Сколково. В Сколкове мне Сумкина передала твое письмо от 14, оно где-то завалялось на почте и получено только 21. Я из него увидал, что ты сердишься на меня. Или, лучше сказать, что я тебя огорчил, и тогда же я решил собраться с мыслями и написать тебе все подробно. И как тебе сказать – я сознавал, что я виноват пред тобою, но не мог, физически не мог этим мучиться, потому что та полоса душевного отчаяния забирала меня всего без остатка, и воображение мое не отзывалось ни на что с такою яркостью, как отзывалось оно, рисуя мне мою немощь, бессмысленность моего существования, мою глупую и заносчивую самонадеянность…