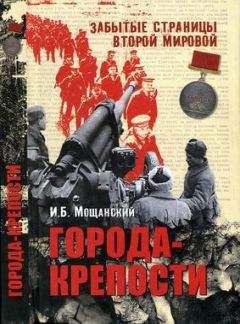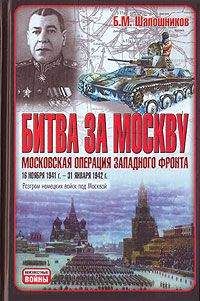Елена Лелина - Павел I без ретуши
Из «Записок» сенатора Ивана Владимировича Лопухина:
В императоре Павле, можно сказать, беспримерно соединялись все противные одно другому свойства до возможной крайности; только острота ума, чудная деятельность и щедрость беспредельная являлись в нем при всех случаях неизменно. Пылкость гнева его никогда, однако же, не имела последствий невозвратных. К строгости побуждался он точно стремлением любви, правды и порядка, коего расстройство увеличивалось иногда в глазах его предубеждением. Сильное впечатление в нраве его делало, конечно, то, что от самого детства напоен он был, так сказать, причинами к страхам и подозрениям и что безмерная деятельность его стеснялась невольным бездействием до тех немолодых уже лет, в которых вступил он на престол. Я уверен, что при редком государе больше, как при Павле I, можно было бы сделать добра для государства, если бы окружавшие его руководствовались усердием к отечеству, а не видами собственной корысти.
Из переписки дипломата Семена Романовича Воронцова:
…слова ваши касательно характера покойного императора, являвшего собой смесь наилучших качеств с крайней жестокостью, каковая и возобладала под конец, совершенно справедливы; однако надобно присовокупить сюда и то, что приступы жестокости все усиливались и повлияли на его рассудок, ибо вполне очевидно, что в последние 8–10 месяцев впал он в явное безумие. Вызов, сделанный им нескольким государям выйти на поединок и опубликованный по его велению в газетах, равно как и многие другие черты, неопровержимо свидетельствуют о расстройстве ума. Вследствие чего я не отношу на сей счет дурного сердца его деяния тиранства и жестокости, кои омрачили последнее время царствования. Я более склонен сожалеть, нежели обвинять, и никогда не забуду его благодеяний в первые два года правления…
Из «Юношеских воспоминаний» Евгения Вюртембергского:
По данному мне наставлению я должен был преклонить одно колено перед самодержцем, но это никак мне не удавалось. Напрасно силясь согнуть жесткое голенище высокой ботфорты на левой ноге, я внезапно рухнулся на оба колена. От императора не укрылось, чего стоило мне все это усилие и как твердо преодолевал я оное. Он улыбнулся, поднял меня обеими руками вверх, опустил на стул и сказал своим особенным хриплым голосом:
— Садитесь, милостивый государь! Как вы провели ночь у нас? Что вам снилось?
Ответ мой: «Ничего, ваше величество!» — по-видимому, совершенно поразил генерала Дибича.
— Да, да, — поспешил я прибавить, подмигивая Дибичу. — Я слишком устал и потому не видел никакого сна.
Дибич побледнел; но так как император принял мой ответ милостиво, то взор его прояснился.
— Вам понравится у нас, — сказал Павел, оглядывая меня с ног до головы. — Сколько вам лет?
— Тринадцать, ваше величество.
— Видели свет?
— Я имел честь вам доложить, что увидел его тринадцать лет тому назад.
— Не о том речь, — возразил с улыбкою император, — я спрашиваю, случалось ли вам путешествовать? Видали ль людей и…
На этом я прервал его. Дибич побледнел снова: но я, не обращая на него внимания, объявил, что мало еще видал посторонних людей и никогда почти не покидал своего местожительства; «но, — прибавил я, — люди везде одинаковы, и здесь такие же, как у нас».
— Я этому рад, — возразил, от души засмеявшись, император, и черты Дибича озарились счастьем. — Я рад, что вы так скоро освоились с нами; а чего еще не знаете, тому скоро научитесь.
— Ах, боже мой! — воскликнул я. — Жизнь слишком коротка, чтобы научиться всему, чему мы должны и чему хотели бы научиться.
— Браво! — вскричал император, значительно взглянув на Дибича и милостиво подмигнув ему. Затем он быстро встал со стула и, послав мне поцелуй рукою, вышел, приговаривая: «Очень рад, милостивый государь, нашему знакомству. Подождите: я доложу о вас императрице».
До слез растроганный Дибич воспользовался этим промежутком, чтобы дать исход переполнившим его чувствам. «Благодарение Богу! Государь к нам милостив!» — воскликнул он. И правда, в это время он [Павел I] не проявил ни малейшего следа болезни, в существование которой меня посвятила нескромность дяди моего в Риге. Он говорил со мной по-немецки совершенно чисто и был любезен, нисколько не роняя своего императорского достоинства. […]
Он [Павел I]… одобрительно потер руки и подал знак, чтоб садились. Сам он сел с императрицею на софе; все прочие уселись вокруг стоявшего перед ним круглого стола, я же должен был поместиться прямо против государя. Он часто взглядывал на меня, милостиво подмигивая, и почти вовсе не говорил со своим семейством, а с одним только графом Строгановым. Даже мой ребяческий ум был поражен при этом разговоре удивительными неожиданностями в суждениях императора, и я должен сознаться, что они всегда служили мне материалом разнообразнейших вопросов, которые я предлагал генералу Дибичу на возвратном пути. Хитрый придворный приходил от них в немалое смущение.
Из «Записок» фрейлины высочайшего двора Марии Сергеевны Мухановой:
Император Павел каждое утро спрашивал, с какой стороны дует ветер, и с этим вопросом обращался к великому князю Александру Павловичу, к моему отцу и к Кутайсову поочередно, и если они разногласили между собою, то очень гневался, особенно доставалось великому князю. Во избежание такой неприятности эти три лица согласились между собою каждое утро выходить на воздух и, уверившись, с какой стороны ветер, докладывать о том государю. […]
Бесчисленные его прихоти известны всем. Несмотря на благородные свойства его души и на природную его доброту, он возбудил к себе всеобщую ненависть, которая и привела его к несчастной кончине. Я расскажу здесь несколько случаев, которые мне приходят на память. Однажды отец мой, следуя издалека за ним и за великим князем Александром Павловичем, увидал, что великий князь махал несколько минут треугольною шляпой и потом бросил ее далеко от себя; после этого батюшка спросил великого князя, что это значит. Он отвечал, что государь колебался, уволить или нет Архарова, и потому загадал, которым концом шляпа упадет на землю. […]
Государь любил показывать себя человеком бережливым на государственные деньги для себя. Он имел одну шинель для весны, осени и зимы. Ее подшивали то ватою, то мехом, смотря по температуре, в самый день его выезда. Случалось, однако, что вдруг становилось теплее требуемых градусов для меха; тогда поставленный у термометра придворный служитель натирал его льдом до выхода государя, а в противном случае согревал его своим дыханием. Государь не показывал вида, что замечает обман, довольный тем, что исполнялась его воля. Он, кажется, поступал так по принципу, для поддержания и усиления монархического начала, тогда ниспровергнутого французскою революцией. Жалкое средство, придуманное человеком от природы умным! Точно так же поступали и в приготовлении его опочивальни. Там вечером должно было быть не менее четырнадцати градусов тепла, а печь оставаться холодною. Государь почивал головою к печке. Как в зимнее время согласить эти два условия? Во время ужина расстилались в спальне рогожи, и всю печь натирали льдом. Государь, входя в комнату, тотчас смотрел на термометр — там четырнадцать градусов, трогал печку — она холодная, и довольный ложился в постель. Утешенный исполнением его воли, он засыпал спокойно, хотя впоследствии печь и делалась горячею.