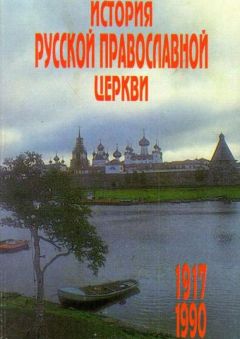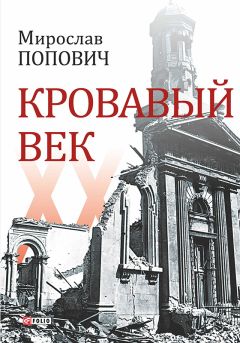Ирена Желвакова - Герцен
На открытии выставки 18 мая, как ожидалось, присутствовала высокая делегация, в которой помимо цесаревича и В. А. Жуковского был историк и статистик, преподаватель наследника, Константин Иванович Арсеньев. И вот теперь ссыльный предстал перед ними в качестве проводника. Едва ли нашелся в этой толпе невежественных и заискивающих чиновников тот, кто мог бы сносно сделать пояснения и провести по выставке сиятельную свиту. А Герцен это сделал блестяще.
Вечером был бал, устроенный в честь наследника. Как все провинциальные балы при таких неординарных случаях, он был беден и глуп, чрезвычайно пестр и неловок, как полагал Герцен. Музыкантов, мертвецки пьяных, пришлось до поры держать взаперти, а потом «прямо из полиции конвоировать на хоры». Но высочайшее посещение вызвало бурю восторгов.
В одном из городков губернии «презентация» выставки отмечалась особым угощением, «гуте» (прозаически скажем — «халявой»), о чем не без веселой иронии вспоминал Герцен. Пресловутая косточка от персика, которую наследник бросил на подоконник (испробовав единственный фрукт), была подобрана местным чиновником-забулдыгой. Сей раритет, «высочайше обглоданная косточка», присвоенная им, тотчас пятикратно обернулась подобными, вырезанными из персиков ушлым земским заседателем для осчастливливания и ублажения дам.
После вятского бала того же 18 мая, вернувшись ночью домой, усталый, но вдохновленный встречей с высокой делегацией, Герцен находит несколько минут, чтобы черкнуть два слова Наташе о своих последних ощущениях: «Поздравь меня, князь был очень доволен выставкой, и вся свита его наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я час целый говорил; завтра в 7 часов утра я еду к нему».
Тогда и решилась его судьба.
В «Былом и думах» Герцен восстановил события. После отъезда наследника Жуковский и Арсеньев заинтересовались: почему он в Вятке. Образованный и порядочный человек и вдруг — в несвойственной ему среде захолустного чиновничества. За объяснением последовало действие. После рассказа Жуковского великому князю наследником было сделано представление государю о разрешении ссыльному ехать в столицу, но Николай отказал: «Это было бы несправедливо относительно других сосланных». Однако, в виде исключения, распорядился перевести Герцена во Владимир.
Последствия высокого посещения не замедлили себя ждать. Свирепые меры Тюфяева по притеснению обывателей и нарушению привычного хода жизни обернулись против грозного губернатора. Купцы и мещане, все, кому открылся доступ к высочайшей комиссии, наперебой рассказывали о проделках беззастенчивого сатрапа — кого объявил сумасшедшим, кого разорил… Для поправки безнадежных вятских дорог, по которым с ветерком должен пролететь экипаж наследника, сгонялись крестьяне. Поражала «навуходоносорская» фантазия хозяина края.
Вот уж учудил: для восстановления прогнивших тротуаров, возложенного на домовладельцев, распорядился выломать пол в доме у бедной вдовы, не имевшей ни малейших средств, и устлать этими досками надлежащий участок на пути сиятельной особы. А в общем-то всё было, как всегда: наспех красилось, судорожно подправлялось. Опыта «потемкинских деревень» — не занимать.
Особое возмущение вызвал перенос привычной даты народного праздника в честь Хлыновской чудотворной иконы святителя Николая, который в крае проводился веками. И всё в угоду его высочеству, что вовсе не было оценено. Напротив, великий князь разобрался во всех злоключениях местного населения и распорядился по справедливости.
Вечный властелин Тюфяев пал. После отстранения с губернаторского поста он, единолично правивший губернией «как турецкий паша», еще самонадеянно думал о продолжении карьеры. Но не случилось. Чиновничье сословие, так умиленно до того пресмыкавшееся перед ним, ликовало. И эту подлость человеческую нельзя было не заметить даже открытому его противнику Герцену, точным словом всегда умевшему обобщить частные наблюдения о человечестве: «Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря».
Новый губернатор А. А. Корнилов, проявивший все повадки образованного и цивилизованного человека, приблизил Герцена к себе. Работы высокому чиновнику, окунувшемуся в новую должность, предстояло через край, а умный, постигший все местные премудрости подчиненный был настоящей находкой. Обязанностей у Герцена сильно прибавилось.
С Корниловым, как отменный «службист» (Герцен пишет это слово по-немецки), он ревизует «государственные имущества» Вятской губернии, разъезжает в доверенные губернатору города, что при Тюфяеве ссыльному категорически воспрещалось. В таком многостороннем знакомстве с глубинкой страны он видит свое преимущество перед московскими друзьями, пишет Кетчеру: «Вы, messieurs, не знаете России, живши в ее центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке».
Можно подумать, что он все время занят делом. Нисколько. Вопреки всем его признаниям, что в его душе словно сосуществуют «два элемента»: один — занят поэзией любви, другой — «требует власти, силы, обширного круга действия», «путного», как ему кажется, он ничего не совершает (слово «путное» акцентируется).
Вновь и вновь он размышляет о любви и вере. Идет постоянная борьба с самим собой: периодически возникающим тщеславием, с мечтами о славе, сходными «с звуком труб и литавр». Он ведь уже процитировал в своей «Легенде» святого Августина: «Две любви создали две веси: любовь к себе до презрения Бога — весь земную; любовь Бога до презрения себя — весь небесную».
Несмотря на внешние послабления, ссыльная жизнь в Вятке, вдали от Наташи, кажется ему все непереносимее. Терзают надежды на скорое возвращение. Он мается в ожидании, убивает время, «таскаясь по улицам и домам». Сомневается, огорчается и ищет решений.
Вот Наташа писала, что страстно желает покинуть дом тетки Хованской, отправиться в Петербург к сестре Анне или к брату Химику. Можно и в монастырь. Герцен встает на дыбы. Родственники для него, видно, не так уж привлекательны, как прежде. Химик — «холодная душа, эгоист». Лучше в монастырь.
Их тайна с Наташей давно для всех открылась, и Яковлев грозил сыну лишением содержания в случае нарушения отцовской воли. Добрая Луиза Ивановна, посвященная в ближайшие намерения молодых людей, как всегда, хлопотала, примиряла, усмиряла негодование Ивана Алексеевича.
Репрессивные меры обрушились и на Наташу; ей запрещалось всё: читать, писать, даже играть на фортепиано. Появились новые претенденты на ее руку: близкие не отступали от намерения выдать ее замуж насильно. Герцен потрясен. Он решается в письме отцу «требовать, приказывать, а не просить разрешения на брак». Но туча прошла, предполагаемый жених, полковник А. И. Снаксарёв, на сговор не явился, и письмо разорвано в клочья.