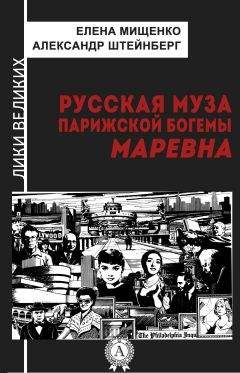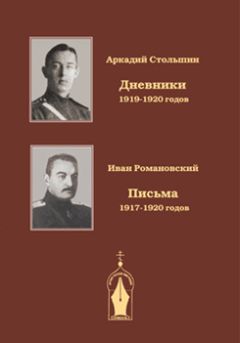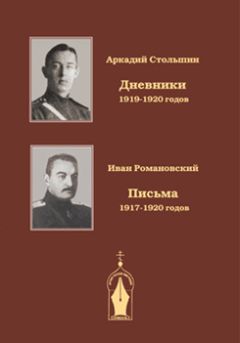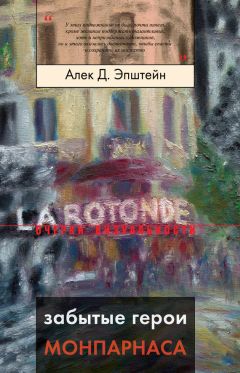Аркадий Столыпин - Записки драгунского офицера. Дневники 1919-1920 годов
Я и сам знаю, что каждая минута промедления отнимает у нас последний шанс на спасение, но обоз почему-то стоит и не двигается. При нас есть что-то вроде эскадрона, составленного в Одессе Юрием Абашидзе. Командует им Боря Шереметев. Боря оказался молодцом – выскочил вперёд и хотел атаковать неприятеля, но не то люди не пошли (обозный сброд), не то его кто-то удержал.
Потом вдруг всё ринулось; сначала рысью, потом галопом. Выехали в открытое поле и понеслись. Скакали, конечно, как попало, в полном беспорядке, благо почва была ровная, без канав и рытвин. Иногда пуля попадала в лошадь, и она падала, опрокидывая повозку. Среди нас с шумом и треском разорвалось несколько гранат, обдавая чёрным дымом и запахом пороха. Две гранаты попали прямо в фургоны, превратив их в кучу обломков и лошадиного мяса. Но это я не видел – к нам на подножку вскочило трое: наш фельдшер Букачёв, денщик Лопухов и ещё какой-то драгун. Это из тех, которые вышли с тачанок и не успели сесть во время паники. А гранаты всё сыпались и сыпались, и мы всё неслись и неслись. Доблестный эскадрон, вместо того чтобы прикрывать наш тыл, скакал параллельно нам с явной тенденцией ускорить аллюр.
Если бы большевики вместо того чтобы нас обстреливать, атаковали бы нас, то ясно, что спасение было бы невозможным. Вообще, положение было безнадёжное, и спасти нас могло только чудо. И это чудо, этот единственный шанс случились. Большевики нас не атаковали. Испугались ли они нашего жалкого эскадрона, отвлекли ли их внимание обозы, следовавшие за нами, неизвестно, но факт тот, что они ограничились обозначенным преследованием и обстрелом.
С какой благодарностью и радостью посмотрел я вокруг себя, когда мы подъехали к лиману, посмотрел на ликующее голубое небо, яркое солнце и все эти мелочи, которые обыкновенно не замечаешь, но без которых общая картина была бы неполной. Боже, как хорошо жить на свете и как тяжело умирать!
Мне вспомнилась надпись на стене Киевской чрезвычайки – надпись, сделанная каким-то несчастным, приговорённым к расстрелу, надпись короткая, но ужасная: «Боже, как тяжело умирать в 21 год…» Да, жить всё-таки хорошо, и оценить это можно только, когда посмотришь смерти прямо в глаза и почувствуешь её близость.
Переход через лёд был медленным и трудным. Лошади падали, скользили, снова подымались, снова падали, разрывая постромки и ломая фургоны. Приходилось идти медленно, а это было довольно неприятно, так как до румынской границы оставалось ещё порядочное расстояние.
Пройдя версты 2 ; – 3 по лиману, мы вступили в область камышовых зарослей. Камыш этот невероятной высоты – в несколько раз выше человеческого роста – и с очень толстыми стеблями. Между этими зарослями извивается дорога, протоптанная шедшими впереди обозами. Дорожка эта идёт по льду и похожа на коридор среди зарослей осоки. Горизонта не видно. Верста за верстой тянется камыш, а Днестра всё нет и нет.
Солнце начинает уже склоняться, но у всех бодрое настроение: говорят, румыны пропускают и отбирают лишь огнестрельное оружие, которое потом отдают при посадке на суда в Констанце.
Вот уж и Днестр. Он в этом месте не широк, но берег его обрывист и трудно обозам переправляться. Здесь много обозов, и от них мы узнаём новость, которая поражает нас, словно удар обухом по голове: оказывается, румыны ни под каким видом не согласны нас пропустить. Сначала они ставили следующее варварское условие: сдача всего – обозов, лошадей, имущества и оружия – и переход на положение именных в концентрационный лагерь, но затем по каким-то странным соображениям отказались даже от этой выгодной, казалось бы, для них комбинации. Сейчас идут переговоры между румынским командованием и нашими генералами Оссовским и Бредовым. К чему они приведут, Бог ведает, но пока что мы переправляемся через Днестр на румынский берег.
Вот что мы узнали от обозов, пришедших раньше нас. Эти несчастные провели ночь под открытым небом у костров, без пищи, на страшном морозе и, главное, в виду румынской деревни!
Вскоре мы переправились. Господи, сколько здесь обозов! Целое море повозок, лошадей, людей, среди которого здесь и там дымятся костры из прибрежного ивняка. Ожидание томит нас и также чувство или, вернее, предчувствие всех тех испытаний, которые нас ещё ожидают впереди. К Бредову поехал Шереметев, но его что-то долго уже нет.
Неожиданно раздался выстрел, но сразу трудно определить, в каком направлении. Впечатление, что от румын, но это кажется так дико, что вернее предположение, что большевики обнаглели до того, что обстреливают нас на иностранном берегу. Раздаётся следующий выстрел. Странно, но полное впечатление, что снаряд пролетел с румынской стороны. Вот и разрыв, совсем близко, шагах в 80 от нас, между нами и румынами. Немного неприятное чувство быть неподвижной целью для чужой артиллерии. Наконец раздался выстрел уже определённо от румын. Мы ушам своим не верили и буквально остолбенели от удивления.
Что же это такое? Среди переговоров, когда мы мирно ждём их результатов, начинается стрельба по беззащитному обозу, по больным, по женщинам и детям. Прямо чёрт знает что такое. Можно ли выдумать что-нибудь более бесчеловечное, более жестокое? Прогонять нас на тот берег, на верную почти гибель к большевикам! Между тем снаряды продолжали сверлить воздух над нашими головами и разрываться то впереди нас, то среди камышей. Румыны потом уверяли, что стрельба была лишь для устрашения, но результаты налицо: трое артиллеристов тяжёлой батареи, убитых в этот достопамятный вечер на румынском берегу.
Офицеры собрались в кучку. Что делать? Шереметева нет, результатов переговоров нет, а между тем к артиллерийской стрельбе примешивается уже ружейная. Пожалуй, проще всего взять белый флаг и пойти к деревне. Убьют – чёрт с ними: бейте, подлецы. Вот приехал и Боря. Надо уходить на русский берег и идти на север на Тирасполь. Авось присоединимся к полякам.
Мы тогда не ели целый день. Мучит голод, холод, чувство полной беспомощности и сознание трудности положения. Дело, в общем, дрянь. Всю ночь мы шли. Что это была за ночь! Видит Бог, за эти четыре или пять лет войны я испытал немало лишений. Я мёрз на персидских перевалах, жарился в степях под Багдадом и нравственно мучился под Минском, когда начинался развал полка. Но такого соединения физических страданий и душевных у меня, кажется, никогда не было.
Лёд начал таять. Местами он трещал и проваливался. Потонула лошадь Шереметева. Шли страшно медленно. Цел наш начальник штаба Бредова (кажется, полковник Генштаба Галкин). Наконец выбрались из камышей и чуть не по колено в воде двинулись через лиман. Взошла среди утреннего тумана тусклая невесёлая луна и осветила бесконечную серую поверхность льда.