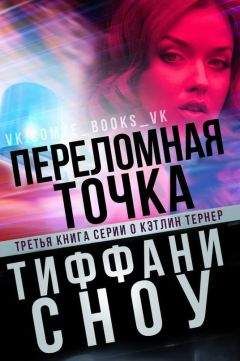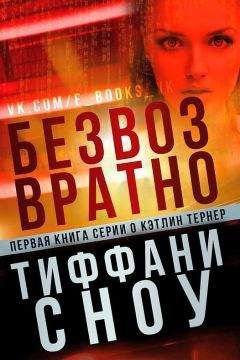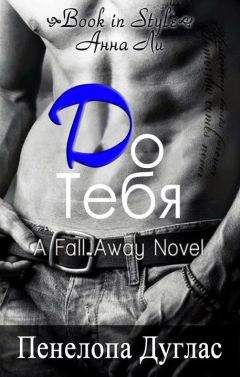Борис Изюмский - Нина Грибоедова
— Как можно! Я должна приободрить нашу Нину…
— Тогда я вас очень прошу, графиня, ни слова о гибели Александра Сергеевича. Она еще ничего не знает…
— Ну что вы, неужели я не понимаю!
Она широким, твердым шагом пошла в соседнюю комнату, а минут через десять Прасковья Николаевна услышала какой-то странный звук, будто там упало на пол что-то тяжелое, и раздался резкий крик графини:
— На помощь! На помощь!
Ахвердова вбежала в Нинину комнату. Нина без сознания лежала на полу, а графиня с недоумением бормотала:
— Я ничего особенного не сказала…
Как позже выяснилось, Паскевич произнесла не то фразу «вдовья доля», не то «дитя, обреченное явиться в мир полусиротой».
Нина вскрикнула:
— Он погиб! — и лишилась сознания. Начались преждевременные роды.
Срочно вызванные доктор и акушерка ничем помочь не смогли: родившийся мальчик через несколько часов умер.
* * *Нина пролежала в нервической горячке более месяца. Почти ничего не ела и молчала. Опасались за ее рассудок.
Никто не думал, что Нина выживет. В доме царил глубокий траур. Талала, умоляя, заставила Нину в конце концов принимать пищу. Мысленно обращаясь к богу, няня укоряла его за эту новую смерть.
Видно, молодость сделала свое. На дворе было в разгаре лето, когда Нина впервые встала с постели и вышла на террасу. Негусто курчавилась гора Святого Давида, словно успев устать, неохотно падал сололакский ручей. Нине показалось диким: Сандра нет, а шмели жужжат, как и при нем, и травы пахнут так же, как и при нем.
Когда-то, в той далекой и счастливой жизни, она любила гомон птиц, игру света и теней, чистый воздух гор, сирень в каплях росы. «Зачем надо мне все это теперь? — думала Нина. — Зачем пережила Сандра любовь моя?»
Она до дна выплакала сердце, и, казалось, его давил камень. Нина посмотрела вокруг ввалившимися глазами, провела языком по краям губ, растрескавшихся, как у человека, которого много дней мучила жажда.
«Почему именно мне уготована такая судьба? Всего пять месяцев и восемь дней была я женой любимого человека, и даже из этих считанных дней мы больше месяца оказались в разлуке. Надо ли было судьбе соединять нас? Нет, надо, надо! Даже если бы наша жизнь вместе продолжалась только восемь дней».
Останки Грибоедова только через неделю обнаружили среди изуродованных трупов в мусорной яме за городом.
Его узнали по пулевой метине на мизинце, когда-то простреленном на дуэли Якубовичем и несгибавшимся, по клочку посольского мундира, вдавленному в грудь.
Наиболее осторожные сановники шаха, да и сам Фетх-Али-шах, чувствуя, что в своей злобе они перешагнули все границы, настолько задев престиж России, что теперь, пожалуй, жди нового ее наступления, пошли на попятный.
Правда, шах сначала стал было утверждать, что посланник вовсе не убит, а куда-то сбежал. Но когда останки Грибоедова все же обнаружили и гроб поставили в кладбищенской церкви св. Варфоломея и Фаддея, а затем захоронили в ограде армянской церкви, у Казвинских ворот, шах и его приближенные сделали вид, будто обескуражены происшедшим помимо их воли, очень сожалеют о фанатическом взрыве «вышедшей из повиновения толпы» и что сами были растеряны и потому не вмешались немедля.
Втайне полагая, что русские получили достаточно ощутимый урок, к чему приводит чрезмерность притязаний, они решили, что заходить дальше не следует и, пожалуй, пора отправить своего гонца в Петербург с извинениями, заверениями и лучшим драгоценным камнем из шахской коллекции. Алмаз этот «Шах» — необыкновенной величины — три столетия назад принадлежал индийскому магарадже, затем попал в руки династии Великих Моголов, а теперь предназначен был в подарок императору — «смягчить гнев севера». На таком послании настаивал даже шахский сардар духовных сил — дервиш Каймакам Мирза Бюзюрк.
Аббас-Мирза велел укутать в черное все барабаны, не бить зори, хотел сам ехать в Петербург, заявив, что «скорее подставит шею свою мечу, чем выйдет из рабства августейшего императора». Но русский император, боясь нежелательных смен правителей, написал ему: «Постигая пагубное влияние коварных замыслов, которые колеблют спокойствие Персии, я признаю ваше присутствие в Тавризе необходимым для укрощения буйства и предупреждения происков, а потому приглашаю вас не удаляться из ваших пределов в столь сомнительное время».
Тогда, вопреки препятствиям, чинимым англичанами — они срочно перебрасывали в Персию своих офицеров, оружие из Индии, надеясь на скорую войну, и даже прочили назначить командующим персидской армией сэра Генри Бетьома, — двор решил отправить в «извинительное посольство» пятнадцатилетнего внука шаха Хосрова-Мирзу и свиту из сорока человек.
В ней был и капитан Семино, который успел сказать в Тифлисе Паскевичу: «Англичане хотят стравить вашу страну с Персией и тем облегчить участь Турции. Макдональд повсюду разглашает, что если шах войдет в союз против турок, Англия объявит Персии войну».
Фетх-Али-шах, напутствуя внука, наставлял его горько поплакать на груди у матери Грибоедова в Москве, а перед русским императором предстать, в знак покорности, с саблей, висящей на шее, и с набитыми землей сапогами, переброшенными через плечи.
Но одновременно шах послал человека в Константинополь для тайных переговоров с турецким султаном: тот начал наступление на Ахалцых, готовил захват Гурии, и это обнадеживало.
…В Москве юный принц принимал хлеб-соль из рук купечества и встречен был почетным караулом.
В тот час, когда посланец шаха проливал слезы на груди у матери Грибоедова Натальи Федоровны, тело самого Грибоедова еще не было доставлено в Тифлис. С этим явно не торопились, видя в затяжке свою меру смягчения возникших обстоятельств.
Хосрову-Мирзе в Петербурге отвели покои в Таврическом дворце. Не понадобилось ему вешать на шею саблю, набивать землей сапоги. Балконы города украсили коврами и флагами. Хосрова принимали как желанного гостя: распустили штандарты конногвардейцы в рыцарской форме, били в литавры, царский конвой свершал свой ритуал, сверкали латами кавалергарды, салютовала Петропавловская крепость. Выстроились шеренги сенаторов и генералов.
Можно было подумать, что принц — посланник не смерти, а великой радости, с таким удовольствием принимал его император. Пожимая руку Хосрову-Мирзе, он сказал, что «предает вечному забвению злополучное тегеранское происшествие».
В воздухе уже повисла фраза, оброненная Нессельроде в адрес Грибоедова: «Опрометчивые порывы усердия покойного, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями тегеранской черни».