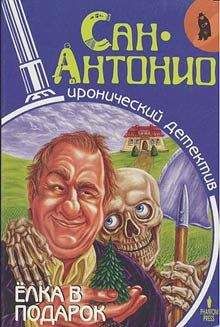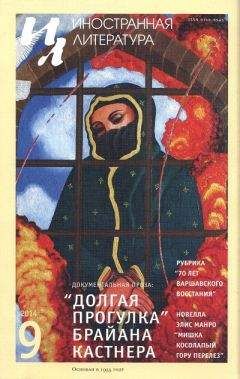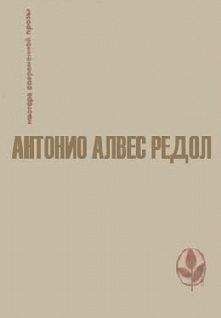Милован Джилас - Беседы со Сталиным
Я был хорошо знаком со старшим братом Вознесенского, профессором университета, которого только что назначили министром образования Российской Федерации. У меня состоялось несколько весьма интересных дискуссий со старшим Вознесенским во время Панславянского конгресса в Белграде зимой 1946 года. Мы пришли к согласию не только в отношении узости и необъективности господствовавших теорий «социалистического реализма», но также и в том, что касалось возникновения нового явления в социализме (то есть коммунизме), с созданием новых социалистических государств, и с изменениями в капитализме, которые теоретически еще не обсуждались. Вероятно, его красивая и мыслящая голова также пала с плеч в результате бессмысленных чисток.
Ужин начался с того, что кто-то – мне кажется, это был сам Сталин – предложил, что-бы каждый высказал догадку, сколько было градусов мороза, и что каждый будет наказан тем, что его заставят выпить столько стаканов водки, на сколько градусов он ошибется. К счастью, еще находясь в гостинице, я взглянул на термометр и теперь изменил его показания с учетом ночного понижения температуры и поэтому ошибся только на один градус. Помню, что Берия ошибся на три, заметив, что он сделал это умышленно, чтобы выпить побольше.
Такое начало ужина вызвало у меня еретическую мысль: эти люди, замкнутые в узком кругу, способны выдумывать и еще более бессмысленные причины для того, чтобы пить водку, – скажем, длину столовой в футах или стола в дюймах. И кто знает, может быть, они так и делают! В любом случае такое определение числа стаканов водки в соответствии с показателями температуры внезапно привело меня к мысли об ограниченности, пустоте и бессмысленности жизни, которую вели советские лидеры, собравшиеся вокруг своего престарелого шефа, даже несмотря на то, что они играли роль, которая была решающей для всей человеческой расы. Я припомнил, что русский царь Петр Великий подобным же образом устраивал со своими помощниками ужины, на которых они обжирались и упивались до одури, в то же время решая судьбу России и русского народа.
Это впечатление пустоты такой жизни не ослабевало, а возвращалось на протяжении ужина, несмотря на мои попытки подавить его. Оно особенно усиливалось возрастом Сталина, бросающимися в глаза признаками его дряхлости. Никакие уважение и любовь к его личности, которые я упрямо вынашивал в глубине своей души, не могли вытеснить из моего сознания понимание этого.
В его дряхлости было что-то трагическое и одновременно отталкивающее. Трагическое было невидимо – это мои размышления о неизбежности угасания даже такой великой личности. Отталкивающее же все время выходило на поверхность. Хотя он всегда любил хорошо поесть, Сталин проявлял теперь обжорство, как будто опасался, что ему не хватит любимой еды. С другой стороны, он меньше и с большей осторожностью пил, как будто считая каждую каплю, чтобы избежать неприятных последствий.
Его интеллект снижался даже еще более заметно. Он любил вспоминать разные случаи из своей молодости – ссылку в Сибирь, детство на Кавказе; и все недавнее он сравнивал с чем-то таким, что уже случалось раньше: «Да, помню то же самое…»
Было непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я в последний раз видел его в 1945 году, он все еще был энергичным и находчивым, с острым чувством юмора. Но это было во время войны, и, как оказалось, это были последние усилия Сталина и предел его возможностей. Теперь же он смеялся над глупыми и мелкими шутками. Как-то раз он не только не уловил политического смысла рассказанного мной ему анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, но, как мне показалось, и был обижен, подобно старым людям. На лицах остальных гостей я прочел неловкое удивление.
В одном, однако, он оставался прежним Сталиным: упрямым, резким, подозрительным, когда кто-либо не соглашался с ним. Он даже оборвал Молотова, и между ними можно было почувствовать напряженность. Все относились к нему почтительно, избегая высказывать собственное мнение, пока он не высказал свое, а потом спеша согласиться с ним.
Как обычно, они перескакивали с предмета на предмет – и в своем изложении я буду придерживаться этого порядка.
Сталин заговорил об атомной бомбе: «Это мощная штука, мощна-я!» Его слова были полны восхищения, которое давало понять, что он не успокоится до тех пор, пока у него тоже не будет «мощной штуки». Но он не упомянул о том, что она уже есть у него или что СССР уже разрабатывает ее.
С другой стороны, когда месяц спустя Кардель и я встречались с Димитровым в Москве, Димитров как будто по секрету сообщил нам, что у русских уже есть атомная бомба и что она даже лучше американской, то есть той, что была сброшена на Хиросиму. Я полагаю, это была неправда и русские были лишь на пути к созданию атомной бомбы. Но таковы факты, которые я привожу.
И в тот вечер, и вскоре после него Сталин на встречах с болгарской и югославской делегациями подчеркивал, что Германия останется разделенной:– Запад сделает Западную Германию своей, а Восточную Германию мы превратим в наше собственное государство.
Это была его новая, но понятная мысль; она проистекала из всего направления советской политики в Восточной Европе и в отношении Запада. Я никогда не мог понять заявлений Сталина и советских руководителей, которые они делали болгарам и югославам весной 1946 года, о том, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Я спросил одного из присутствовавших, как русские собираются этого достигнуть. Он ответил: «Я сам не знаю!» Подозреваю, что даже те, кто делал такие заявления, на самом деле не знали как, но находились под опьяняющим влиянием военных побед и своих надежд на экономический и духовный распад Западной Европы.
К концу ужина Сталин неожиданно спросил меня, почему в югославской партии немного евреев и эти немногие не играют в ней важной роли. Я попытался объяснить ему, что прежде всего в Югославии немного евреев и большинство из них принадлежит к среднему классу. Я добавил:
– Единственный видный коммунист – Пияд, но он считает себя скорее сербом, чем евреем.
Сталин начал вспоминать:
– Пияд, такой низкий в очках? Да, помню, он приезжал ко мне. И какой он занимает пост?
– Он – член Центрального комитета, коммунист-ветеран, переводчик «Капитала», – объяснил я. – В нашем Центральном комитете нет евреев! – перебил он и стал язвительно смеяться. – Вы антисемиты, вы, Джил ас, тоже антисемит, вы тоже антисемит!
Я понял, что его слова и смех означают нечто противоположное, как я и должен был понять, – как выражение его собственного антисемитизма и провокации, нацеленной на то, чтобы заставить меня высказать свою позицию относительно евреев, в частности евреев в коммунистическом движении. Я тихо посмеялся и оставался спокойным, что не было трудно для меня, поскольку я никогда не был антисемитом и разделял коммунистов только на хороших и плохих. Сталин и сам быстро ушел от этой скользкой темы, оставшись довольным своей циничной провокацией.