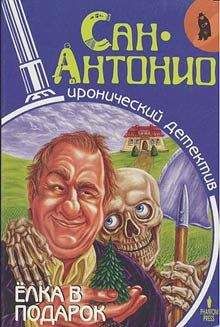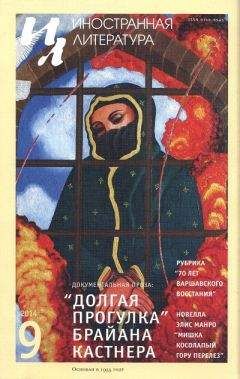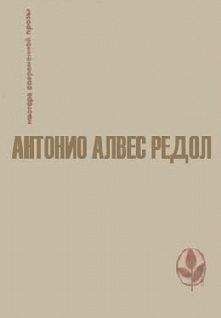Милован Джилас - Беседы со Сталиным
Я подтвердил его наводящие вопросы. Сталин закончил разговор об Албании, который продолжался едва ли десять минут:
– Между нами нет разногласий. Вы лично напишите об этом послание Тито от имени Советского правительства и представьте мне его к завтрашнему дню.
Опасаясь, что не понял, я переспросил его, и он повторил, что я должен написать послание югославскому правительству от имени Советского правительства.
В тот момент я воспринял это как признак особой уверенности во мне и как высшее выражение согласия с политикой Югославии по отношению к Албании. Однако, когда на следующий день я работал над посланием, мне пришла в голову мысль, что когда-нибудь это может быть использовано против правительства моей страны, и поэтому я тщательно и кратко сформулировал что-то наподобие следующего: Джилас прибыл вчера в Москву, и на состоявшейся с ним в тот же день встрече было выражено полное согласие между Советским правительством и Югославией в отношении вопроса об Албании. Это послание так и не было направлено югославскому правительству, как и не было использовано в дальнейших столкновениях между Москвой и Белградом.
Остальная часть беседы тоже продолжалась недолго, лениво вращаясь вокруг таких не имевших большого значения вопросов, как размещение Коминформа и его газеты в Белграде, состояние здоровья Тито и тому подобное.
Тем не менее я выбрал подходящий момент и поднял вопрос о поставках для югославской армии и нашей военной промышленности. Я подчеркнул, что мы нередко сталкиваемся с трудностями в отношениях с советскими представителями, потому что они под предлогом «военных секретов» отказываются предоставлять нам то или иное. Сталин встал и закричал:
– У нас нет от вас военных секретов. Вы – дружеская социалистическая страна, у нас нет от вас военных секретов. – Затем он подошел к своему письменному столу, позвонил Булганину и коротко приказал: – Здесь югославы, югославская делегация – их надо немедленно выслушать.
Весь разговор в Кремле продолжался около получаса, а после него мы отправились на дачу Сталина ужинать.
5
Мы сели в автомобиль Сталина, который показался мне тем же самым, в котором мы ехали с Молотовым в 1945 году. Жданов сел сзади справа от меня, а Сталин и Молотов сидели впереди на складных сиденьях. Когда мы ехали, Сталин зажег на панели перед собой небольшой фонарик, под которым висели карманные часы – было почти десять часов, – и я прямо перед собой увидел его уже ссутулившуюся спину и тощую, костлявую шею с морщинистой кожей над жестким маршальским воротником. Я размышлял: вот один из самых могущественных людей сегодняшнего дня и вот его товарищи; какая сенсационная произошла бы катастрофа, если бы сейчас вдруг разорвалась бомба и разнесла нас всех на куски! Но такая мысль была лишь мимолетной, отвратительной и настолько неожиданной даже для меня самого, что она привела меня в ужас. С печальной любовью я видел в Сталине маленького старого дедушку, который всю свою жизнь, в том числе и сейчас, заботился об успехах и счастье всей коммунистической расы.
Ожидая, пока соберутся остальные, Сталин, Жданов и я оказались в вестибюле дачи перед картой мира. Я опять взглянул на круг, очерченный синим карандашом вокруг Сталинграда, – и Сталин опять это заметил; я не мог не обратить внимания на то, что ему нравится, что я это так пристально рассматриваю. Жданов тоже заметил этот обмен взглядами, подошел к нам и сказал:
– Начало Сталинградской битвы. Сталин на это ничего не сказал.
Если я хорошо помню, Сталин начал искать Кенигсберг, потому что его должны были переименовать в Калининград, и вокруг Ленинграда натыкался на места, которые со времен Екатерины все еще носили немецкие названия. Это привлекло внимание Сталина, он повернулся к Жданову и коротко сказал:
– Измените названия – бессмысленно, что эти места по-прежнему носят немецкие названия! – При этом Жданов достал небольшой блокнот и записал указание Сталина маленьким карандашом.
После этого Молотов и я пошли в туалет, в полуподвальный этаж дачи. В нем было несколько кабинок и писсуаров. Молотов начал расстегивать штаны еще на ходу, говоря при этом: «Мы называем это разгрузкой перед загрузкой!» Вслед за этим я, давний обитатель тюрем, где человека заставляют забыть о скромности, испытал чувство стыда в присутствии Молотова, более пожилого человека, и, зайдя в кабинку, закрыл дверь.
После этого мы оба прошли в столовую, где уже собрались Сталин, Маленков, Берия, Жданов и Вознесенский. Последние двое – новые личности в настоящих мемуарах.
Жданов тоже был довольно низкого роста, с коричневатыми подрезанными усами, высоким лбом, острым носом и нездоровым красным лицом. Он был образован и считался в политбюро большим интеллектуалом. Несмотря на его хорошо известную узость взглядов и догматизм, было очевидно, что он обладал значительными знаниями. Хотя у него были знания обо всем, даже о музыке, я бы не сказал, что существовала какая-то одна область, которую он знал бы досконально – типичный интеллектуал, который нахватался знаний из других областей через марксистскую литературу. Он также был циником – по-интеллектуальному, но поэтому еще более отталкивающим, потому что за интеллектуальностью можно было безошибочно угадать властелина, который был «великодушен» к людям духовности и пера. Это был период «постановлений» – решений советского Центрального комитета, касающихся литературы и других областей искусства, представлявших собой неистовое наступление даже на те минимальные свободы в выборе темы и формы, которые еще пережили (или же были выхвачены из-под него) бюрократический партийный контроль времен войны.
Я помню, в тот вечер Жданов как последнюю шутку рассказывал о том, как была воспринята в Ленинграде его критика сатирика Зощенко: у Зощенко просто отняли продовольственные карточки и не возвращали их до тех пор, пока великодушно не вмешалась Москва.
Председателю Госплана СССР Вознесенскому оказалось едва за сорок – это был типичный русский блондин, с выдающимися скулами, довольно высоким лбом и кудрявыми волосами. Он производил впечатление человека спокойного, культурного и прежде всего замкнутого, который мало говорил и всегда хранил довольную внутреннюю улыбку. Я раньше читал его книгу о советской экономике во время войны, и она произвела на меня впечатление тем, что ее автор был человеком честным и мыслящим. Позднее эта книга была раскритикована в СССР, а Вознесенского ликвидировали по причинам, которые остаются нераскрытыми до сих пор.
Я был хорошо знаком со старшим братом Вознесенского, профессором университета, которого только что назначили министром образования Российской Федерации. У меня состоялось несколько весьма интересных дискуссий со старшим Вознесенским во время Панславянского конгресса в Белграде зимой 1946 года. Мы пришли к согласию не только в отношении узости и необъективности господствовавших теорий «социалистического реализма», но также и в том, что касалось возникновения нового явления в социализме (то есть коммунизме), с созданием новых социалистических государств, и с изменениями в капитализме, которые теоретически еще не обсуждались. Вероятно, его красивая и мыслящая голова также пала с плеч в результате бессмысленных чисток.