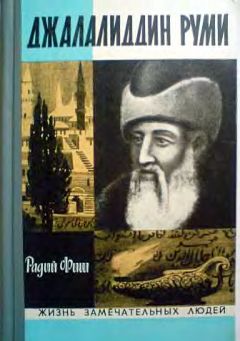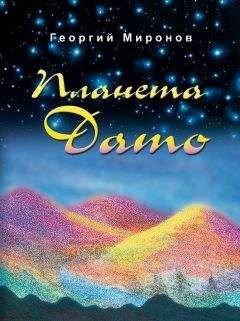Радий Фиш - Джалалиддин Руми
Если бы не долетавшее по ветру бряцание конской сбруи — караулы у костров и на ночь не расседлывали своих длинношерстных, ко всему привычных низкорослых коней — да пламя костров, можно было подумать, что не сон, а смерть сразила монгольский стан, так было тихо и покойно вокруг. Битва была выиграна, завтра предстояло торжество, и рядовые воины, и тысяцкие спали младенческим невинным сном людей, на славу сделавших свое дело.
–Монголы разрушали города, вытаптывали пашни и сады не оттого, что злы по природе, подумал вдруг Джалалиддин, а оттого, что служили своему скоту, который нуждается в пастбищах, а не в пашнях. Это, конечно, дикость, но дикость — состояние преходящее.
За сорок лет, что минули с того страшного первого вала нашествия, который вырвал их с корнем из Балха, монголы уже изменились. Давно нет в живых Чингиса, а его потомки заботятся уже не столько о скоте, сколько о землях, доставшихся им в удел: чтоб земли эти кормили их, приносили дань. Значит, нет смысла разорять дотла города, уничтожать людей, что создают богатство. И если люди эти будут не только поболее числом, но и посильнее духом, то неизвестно, кто у кого окажется со временем в плену и что останется тогда от имени Байджу иль даже от имени ильхана Хулагу?
Он пробыл на холме до самого рассвета. И, глядя на монгольский стан, все больше утверждался в убеждении, что с Коньей завтра не случится ничего. Даже перед рассветом в монгольском стане было тихо, ничто не говорило о приготовлениях к битве, к штурму. Да и зачем им было штурмовать столицу, которая лежала распростертой перед копытами их коней?
–Джалалиддин не ошибался. В одном из шатров по левую руку от юрты Байджу той ночью без сна ворочался на войлочной постели Рюкнеддин, будущий султан сельджукской державы, которого монгольский ильхан приказал посадить на престол в Конье вместо его взбунтовавшегося брата. А рядом с ним в шатре был и Муиниддин Перване. Тот самый Перване, с которым Джалалиддину предстояло вести свой многолетний спор, спор о слове и о деле. Как некогда его отец выговорил у монголов мир, так в тот год сын снова выговорил жизнь для жителей Коньи, став истинным правителем державы.
Но, стоя на холме, Джалалиддин об этом знать не мог. Он только размышлял и наблюдал. И когда солнце тронуло небосвод первыми робкими лучами, решил: да, город и на сей раз уцелеет. Он быстро спустился в долину, оглашенную рассветным пением птиц, и направился к стенам Коньи.
У ворот Халкабагуш собралась громадная толпа: дервиши, стража, ахи, факихи, муллы, горожане. Вопль изумления при виде Мевляны, вернувшегося живым и невредимым, потряс ее: то было чудо.
За десятилетия монголы, непобедимые, неуязвимые, внушили людям необъяснимый потусторонний страх. Бывало, среди нескольких десятков мусульман вдруг появлялся монгольский воин, приказывал им лечь на камни и ждать, пока он не вернется, чтобы снести с них головы. И люди, точно кролики, завороженные удавом, покорно ждали, и не помышляя о бегстве, пока монгольская сабля не лишала их жизни.
А Мевляна один ушел и вот возвратился! То было чудо, и оно должно повлечь за собой другие.
Прочтя все это в горящих, обезумевших от отчаяния и надежды глазах толпы, Джалалиддин нежданно ощутил опустошающее душу бессилие.
Не веривший в иные чудеса, кроме чуда сердца человеческого, он словно услышал легенду, что будет сочинена о только что минувшей ночи теми, кто, усвоив его слова, но не их суть, назовет себя его последователями, когда он сам уже не сможет сказать больше ни слова.
Через шестьдесят лет после ночи, проведенной поэтом на холмах Казанвирана, по приказанию его внука, который возглавит секту, освященную именем поэта, почтенный шейх Афляки занесет в свою богоугодную книгу «Жизнеописаний познавших» легенду о том, как Мевляна спас Конью от монгольского разгрома «силой своей святости».
Свершатся опасения поэта: яйцо мысли окажется выеденным изнутри, сохранится в неприкосновенности лишь скорлупа слов.
–Отчаявшаяся толпа тянула руки к Джалалиддину, как голодные тянутся к хлебу. Они просили надежды. Он молчал.
Каждый человек — единственный, неповторимый мир. Но все они — люди. Он знал самого себя и потому понимал мотивы, мысли, чувства других. Их ад был и его адом, их рай — и его раем. И потому он испытал все, что могут испытать люди.
Если он понимал человека, то понять толпу нетрудно. От единой искры она занимается пламенем, как сухая степная трава. И уж совсем легко разгадать толпу вооруженную, направляемую волей какого-нибудь хана или султана. Побуждения и цели султанов убого ограничены их положением.
За ночь, проведенную вблизи монгольского стана, он пришел к убеждению: судьба и на сей раз будет милостива к Конье. Ильхан Хулагу отправил своего нойона Байджу не захватывать новые земли, а привести к покорности уже завоеванные, посадить на место султана Иззеддина его брата и взыскать дань, которая виделась ему не простым числом, а подобием бесконечной геометрической прогрессии. Зачем же тогда рушить город, избивать людей?
Все так, но при одном условии: если не произойдет непредвиденного, что вызовет в Байджу человеческие чувства — он ведь все-таки человек, — такие, как ярость, обиду, отвращение, которые заставят его позабыть и о своем положении, и о хане Хулагу. Тогда… Тогда можно ошибиться. Но он, Джалалиддин, не имеет права ошибиться. Не от визирей, вельмож и башбугов — они во главе с султаном Иззеддином удрали с поля битвы и бросили столицу на произвол судьбы, — а только от него, Джалалиддина, зависело теперь, останутся жители в городе или попытаются его покинуть, умрут ли в бою, падут, как бараны, под ударами монгольских булав или будут жить. От одного его слова. И потому он молчал. Но как ни трудно было молвить слово, он все же должен был его сказать.
— Не бойтесь. Прошло время страшиться монголов. И бежать их тоже. Город уцелеет.
Худой высокий дервиш с запавшими глазами на изможденном лице первым прокричал:
— Чудо! Мевляна сотворил чудо!
Отвращение захлестнуло поэта. Чудо? Какое чудо? Неужто наблюдать и думать, просто думать над увиденным для человека чудо?!
Разрезая толпу, Джалалиддин, сопровождаемый Сирьянусом и Веледом, быстрым шагом двинулся к дому. И вслед ему, растекаясь по городу, как лампадное масло, летело липкое: «Чудо! Чудо! Чудо!»
Он с трудом удерживался, чтоб не заткнуть уши. Войдя во двор, Джалалиддин успел заметить в дверях жену и невестку, спрятавшихся при его появлении. Быстрым шагом он вошел в большую соборную келью медресе. Ученики и друзья, ожидавшие его здесь, встали, склонившись в поклоне. И тут до слуха его снова долетел громкий шепот за его спиной: