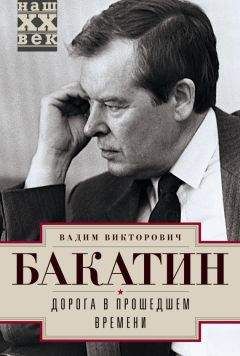Николай Карабчевский - Что глаза мои видели. Том 2. Революция и Россия
Я высказал пожелания, чтобы кровавое крещение России, хотя бы ценою пролитой крови невинных жертв, сплотило ее в духе любви, собратства и дружного единения.
Сейчас, когда я пишу эти строки я, знаю, что этого, как раз, не сбылось; перо едва держится в моей руке, и все во мне болит и ноет от смертельной тоски…
«Добрыми намерениями устлан весь ад»! — и я чувствую, как ничтожны слова, пока они остаются словами…
Глава тридцать четвертая
Последний день пребывания «на фронте», почти сплошь пришлось провести дома.
Переверзев хотел непременно, чтобы я проверил все счета за отчетный период и вообще подробно ознакомился с хозяйственной и финансовой стороной дела. Отчетность была довольно сложная, так как денежные средства, шли из двух источников из кассы союза городов и от казначея нашего Совета по специальному счету санитарного отряда. Григорий Аркадьевич вел отчетность и держал всю хозяйственную часть в образцовом порядке.
Ему же на долю выпало, согласно категорическому настоянию Переверзева, составить «реляцию» о моем посещении отряда для доклада Совету и общему Собранию присяжных поверенных. Она была вручена моему «адъютанту» в запечатанном, печатью отряда, пакете.
Когда, ее вскрыли в заседании Совета и милейший (увы — ныне уже покойный!) казначей наш, член Совета Н. Н. Раевский громко и выразительно прочел ее, я устыдился, до того воинственным я в ней был изображен. Прямо геройствовал: и под обстрелом был; и на коне, во главе отряда, ехал; и «парады принимал»; и с корпусным командиром и его начальником штаба позиции осматривал и везде «блестящие» приветствия и речи говорил!.. Уж очень постарался, легко поддающийся умиленно-восторженному настроению неоценимый Григорий Аркадьевич.
Поезд, в котором мы должны были вернуться в Петроград, отходил поздно ночью, почти под утро и выезжать, чтобы попасть на него предстояло не ранее часов одиннадцати. Вечер мы провели в общей компании в нашей столовой за самоваром и легким ужином. Вся местная офицерская молодежь пришла сюда «на огонек». Среди них были и бойкие говоруны, вышучивавшие товарищей и «начальство», но были и спокойные, вдумчивые, явно проникнутые сознанием ответственной важности переживаемого момента.
Наша милая «докторша» у самовара была за хозяйку. Она всем услуживала и бесшумно приходила на помощь каждому, как раз в ту минуту, когда в этом кто-либо нуждался. Удивительная способность быть одновременно нигде и везде, где только в этом действительно есть надобность. Только очень чуткие, духовно одаренные натуры способны так проявлять свое бытие. Когда, подавая за наш стол в третий раз подогретый самовар, вестовой ей что-то, наклонившись, тихо сказал, она улыбнувшись детской улыбкой, в свою очередь, что-то тихо сообщила, сидевшему с ней рядом Григорию Аркадьевичу. Тот встал и прихрамывая, направился к Переверзеву, сидевшему рядом со мной. Он что-то, также шепотом, «доложил» ему. Тогда; Переверзев уже громко поведал нам то, что уже начинало всех интриговать.
— В отряде нашем имеется отличный плясун молодой татарин. Танцор действительно изумительный, самому Фокину в пору… Есть и гармонист аккомпаниатор. Имеется и комический номер… Испрашивают позволения представить вам свои таланты. Позволите?
— Разумеется, буду рад! — мог только я ответить с улыбкой.
Двери столовой скоро распахнулись и перед нами предстала вся труппа. Все три артиста были в лубочных масках.
Первым номером были танцы молодого татарина, преобразившегося в елочного седовласого деда, с мочальной бородой. Он был в сером балахоне из рядна, из которого шьются мешки, поверх казенного тулупчика вылезавшего по краям ворота и в рукавах. В таком виде, он выходил «с толщонкой», между тем как в действительности, как сообщили мне, был очень худощав и выглядел совсем мальчиком. Ноги его, очень небольшие, были обуты в белые больничные туфли, подвязанные переплетом из тонкого шпагата.
Танцевал он и красиво и своеобразно и легко. Выходило прямо «по балетному»; только странною казалась утолщенная фигура, подбрасываемая легко, точно мячик, на тонких, молодых, проворных ногах.
Гармонист, одетый «по-русски» аккомпанировал очень забористо каким-то импровизированным попурри из знакомых мотивов. Танцора очень одобрили, и он охотно повторил заново всю амальгаму своего сложного танца, внося в него несколько новых штрихов. Прыжки его вверх были прямо таки изумительны по силе и соразмеренности.
Комический элемент был представлен в виде солдата, Одетого не по походному, а в узковатый беспогонный мундир, с немецкой бескозыркой на голове. Лубочная маска изображала уродливо-курносого краснощекого малого, с глупой улыбкой ярко малинового рта до ушей. На ногах были настоящее солдатские, как всегда, не по ноге, неуклюже сапоги.
Этот был тоже танцор, но танцор — гротеск. Свои ужимки прыжки он сопровождал быстрым говорком под музыку. Присядка, выверты носками внутрь и затем припадание к земле на руках так, чтобы ноги продолжали плясать в воздухе являлись кульминационными трюками и его камаринского и трепака.
Из словесных его причитаний я запомнил только куплет, повторявшийся, с некоторыми вариациями, особенно часто:
Сапоги мои уроды
Так и пишут вензеля,
Грязь месили в непогоду,
И сушились опосля!
Соль прилива, очевидно, заключалась в обличении интендантских «сапог-уродов», — неизменной болячки солдатского обмундирования. Было и нечто, относящееся к немецкой бескозырке, надетой для сего на голову:
Австрияк не так танцует,
Голова без козырька!
Кайзер живо оштрафует
Коль не сможет кувырка!
Припев этот сопровождался стремительным, под музыку же кувырканием через голову.
В заключение солист-гармонист исполнил свой концертный репертуар.
Артистов похвалили и отпустили с благодарностью.
Во время исполнения у распахнутых дверей столовой столпилось много зрителей из солдатиков и отрядных санитаров. Они жадно следили глазами за хореографическими фокусами доморощенных искусников и не могли удержаться от хохота при обличении интендантских мучителей-сапог и немецких бескозырок.
Сборы наши в обратный путь были недолги, но прощание и проводы осложнились.
И Переверзев и Григорий Аркадьевич и даже наша милая, в своей, словно детской, застенчивости, докторша пожелали нас проводить верхом на лошадях. Кое-кто из офицеров раздобыл, откуда-то, большие сани-розвальни, и вся компания двинулась за нашей тройкой.