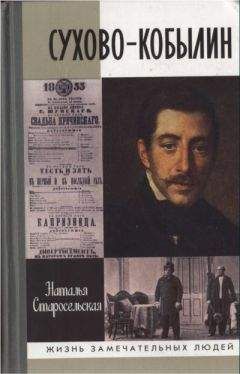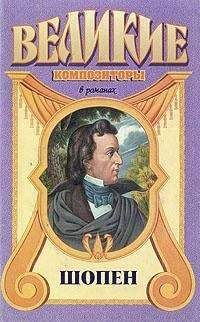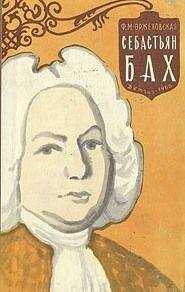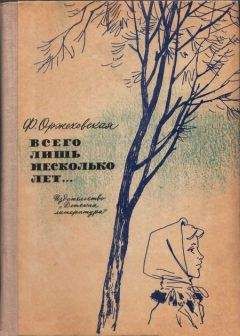Фаина Оржеховская - Пять портретов
6
Для своих романсов он не выбирал непременно гениальные стихи. Только один романс написал на слова Пушкина: «Соловей», и только один – на слова Лермонтова: «Любовь мертвеца». И это не лучшие из его романсов. Совершенство стихов применительно к музыке даже тяготило его: нельзя раскрашивать античные статуи. Слова, в которых так много сказано, не годятся для музыки, потому что музыка не иллюстрирует слова, а открывает новое. Но что можно открыть после Пушкина?
Разумеется, стихи следует выбирать осторожно: стих должен быть легким, гибким, хорошо ложиться на музыку и оставлять простор для нее. Он должен быть и таким, чтобы не совестно было сокращать его, менять. Чтобы тебя, если что-нибудь изменишь, не обвинили в кощунстве (как это сделал Тургенев по поводу либретто «Онегина» [71]).
Очень хороши для романсов стихи Алексея Толстого, Полонского, Фета, Апухтина; пожалуй, более всего Апухтина: тут композитору есть над чем поработать…, «Ночи безумные» – почти на грани банальности, но чувства в этом стихотворении искренни. Поэт не досказал, а музыка проникнет дальше слов, она снимет все, «что было в них ложного».
«Ну что? – спрашивал Апухтин со свойственной ему язвительностью.– Достаточно плохо для тебя?»
Апухтин, друг детства, видел его насквозь. «В моих стихах,– говорил он,– есть одно достоинство: они годятся для романсов Чайковского… Ты просишь меня потесниться, изволь: сделаем чуть хуже».
Один раз он спросил:
– А как же Глинка, Шуман? Ведь они не боятся выбирать для своих романсов стихи великих – Пушкина, Гейне. И совершенство стиха не мешает им.
– Не сравнивай меня с другими,– сказал Чайковский, помрачнев.– Я могу лишь то, что я могу.
– Знаю,– сказал Апухтин,– и спасибо тебе за это.
…Фигнер вытер платком лоб… Теперь наступила очередь Медеи. С ней было и легче, и труднее, чем с Фигнером. Легче оттого, что она быстро учила роли, голос у нее всегда звучал хорошо и ее не терзали сомнения. Но именно это, казалось бы, удобное свойство затрудняло работу с ней. Ее Лиза была старше и решительнее той девушки, которую задумал Чайковский. Но такой уж приходилось ее принимать, потому что Медея всегда держалась первоначальной трактовки.
А Фигнер – он еще много раз будет лепить нового Германа. Унылый, возбужденный, порывистый, оцепенелый, любящий, равнодушный, отчаявшийся, полный надежд – и так до самого спектакля он будет пробовать и пробовать и приводить в отчаяние дирижера и постановщика… Пожалуй, можно и не беспокоить его больше, пока он нездоров.
Но Фигнер уже отдохнул и готов был петь дальше.
Злой день
1
Уезжая из Лобынского [72], Чайковский снялся на прощание с Медеей и Фигнером, а через неделю получил фотографии. Медея писала, что вышла плохо. Э, что там: молодые лица всегда хорошо получаются. «Неужели я так стар? – думал он, рассматривая себя на фотографии.– Как будто между мною и ими не двадцать лет разницы, а гораздо больше».
Он долго выглядел юным, а потом сразу постарел.
Ему вспомнилось, как два года назад в Лейпциге он познакомился с Эдвардом Григом и его женой – и тоже снимался вместе с ними. Они были чуть моложе его. И все-таки кто-то из толпы сказал:
– Это Чайковский, видите? А с ним его дети…Прелестная это была чета, особенно Григ. Светлая, чистая душа.
Вернувшись к себе в деревню, Чайковский, к своему удовольствию, еще застал Лароша. Но тот был мрачен, к работе еще не приступил.
– Это как раз самое трудное,– сказал Чайковский.
Для него теперь наступило время относительного покоя. Он стал вести прежний образ жизни: с утра работал над оркестровкой оперы, гулял, писал письма, изредка принимал гостей.
Правильный ритм жизни, который он сам установил для себя, редко нарушался по его вине. Но однажды, в конце июля, выдался бездейственный день. Ночью он плохо спал – разболелись зубы, а наутро чувствовал себя настолько слабым, что не вышел на прогулку. Это было необычно для него, и он понял: день будет пустой и в то же время страшно тяжелый; он канет в бездну, не оставив после себя никаких следов, кроме тоски и физической разбитости.
Это будет день-мститель. За что? За гордыню. За то, что музыкант вообразил, будто может замедлить ход времени. За то, что в конце каждого дня он удовлетворенно говорил себе, что может в один из своих воображаемых сундуков «горсть золота накопленного всыпать».
Горсть золота – то есть несколько исписанных листов. А за шесть недель – целую оперу. Не слишком ли? Да, это уж прямо по-колдовскому получилось, не мудрено, что гордыня его обуяла.
Все, конечно, можно объяснить. Многолетняя ежедневная тренировка, навыки. Он умел быстро работать. Все делал быстро, энергично, разумно экономя силы. Быстро читал – и запоминал самое главное; быстро писал письма – и они не были холодны, быстро двигался. Сочинял, правда, не спеша и, может быть, оттого – быстро.
Вдохновение было с ним в ладу. Нет, оно нередко заставляло себя ждать, особенно, как ни странно, в молодые годы. Приходилось залучать его насильственно: работать, работать и рвать написанное. Приходилось подолгу ждать: может быть, настигнет внезапно. С годами оно стало чаще откликаться на его призыв – настойчивость побеждала. Но оно терзало его и в те часы, когда являлось. Как в болезненном припадке, он изнемогал под наплывом мыслей, ужасаясь, что нельзя их все записать и сразу окончить задуманное. Ларош говорил ему: «Ты не знаешь мук творчества, а только его восторги. Вот и секрет твоей трудоспособности». Ох, дружище, я знал эти муки. Но никогда не отказался бы от них.
Да, приучил свою музу к послушанию. И вот – «Пиковая дама»– за шесть недель. Вся предыдущая жизнь была подготовкой к этому последнему труду: он успевал только записывать.
И этот сегодняшний злой день абсолютного молчания тоже понятен. Переутомление. Ведь еще не окончив оперу, он видел галлюцинации. Это еще не такая дорогая расплата – один злой день. Надо его пережить, и всё.
Один ли день? А не последуют ли за ним другие, такие же? И не бывает ли так, что целые дни, заполненные трудом и вдохновением, тоже оказываются напрасными и целая опера, за исключением отдельных отрывков, неудачна? В «Орлеанской деве», может быть, только ария Иоанны, ее прощание с родным селением, высока, подлинна. А все другие оперы, до «Онегина» и после него,– разве он доволен ими до конца? Все же он не считает напрасными потраченные месяцы и годы. Не все непременно и всегда должно удаваться, и совсем не обязательно, чтобы каждое новое произведение было лучше предыдущего. Да это и невозможно. Но ты сам не имеешь права сомневаться. Ты отдаешь всего себя ради нескольких страниц. Да что страниц – ради одной фразы. И говоришь себе: «Я верю, это будет лучшее изо всего!»