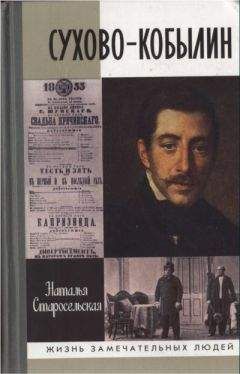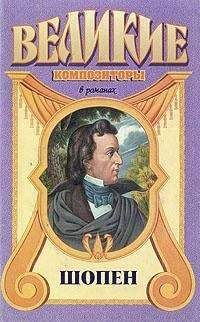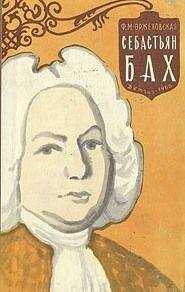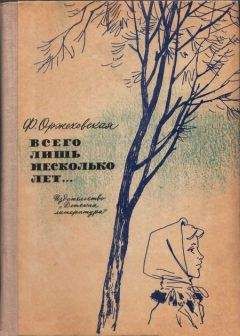Фаина Оржеховская - Пять портретов
– Но после того, что я от тебя услышал,– заметил Ларош,– я могу думать, что твой Герман должен быть неприятен Фигнеру.
– Да что ты! – сказал Чайковский.– Он в восхищении от этой роли.
4
Первый человек, которого он увидал, сойдя с платформы, была Медея. Она спешила к станции в таратайке, которой сама правила.
Резким движением она остановила лошадь.
– Я отпустила кучера,– сказала Медея, отодвигаясь и давая Чайковскому место рядом с собой.– Но вы увидите, как я справляюсь.
– Не сомневаюсь, что отлично.
Медея нравилась ему. Ее жизнь тоже была не из легких. Четырнадцати лет она ушла из родительского дома, чтобы учиться пению и потом поступить на сцену. В восемнадцать уже пела в опере. Родные простили ее: победителей не судят. Тем более, что – по словам очевидцев – в Мадриде почитатели Медеи расстилали перед ней прямо на улице свои плащи и кричали хором: «Да будет – благословенна – мать,– родившая – тебя!»
Но, несмотря на успехи, а может быть, из-за привычки к ним, Медея держалась скромно и просто. Гладко причесанная, в длинной юбке и в простой блузке с галстучком, она скорее походила на курсистку, чем на примадонну столичной оперы. Чайковский спросил о здоровье Фигнера.
– Ему лучше,– сказала Медея, сдерживая бег лошади,– но он нервничает из-за роли. Боится, что не справится.
– Кто же другой справится?
– И я так думаю. Но он и меня заразил своей нервозностью.
«Должно быть, он в болезни нетерпелив,– думал Чайковский,– и ей в такие дни достается».
– Вы ему внушите,– сказала Медея,– и он вас послушается.
Она тщательно выговаривала слова. Итальянка по рождению, она задалась целью сделаться русской женщиной и русской артисткой. И приложила к этому немало стараний: говорила по-русски правильно, но с акцентом.
В пении этот недостаток был заметнее. Все же она имела успех в роли Татьяны. Да и кто не пленился бы ее голосом? Но она была слишком ярка для Татьяны, слишком энергична и порывиста.
Партию Лизы дирекция поручила другой певице, более подходящей для этой роли. Но Фигнер не пожелал приспособляться к другой партнерше. Никто лучше Медеи не умел оттенять талант и пение Фигнера. Она знала, какой нужно быть на сцене, чтобы все его достоинства были особенно заметны. В дуэте с ним она помнила, когда нужно приглушить голос, когда усилить, чтобы это было выгодно для Фигнера. Их дуэты были лучше отдельных выступлений. Голос Медеи, более красивый, более звучный и теплый, дополнял голос Фигнера, осенял его каким-то лучистым ореолом. То был гармоничный, совершенный ансамбль.
– Вы ему только внушите,– повторила Медея,– и он успокоится.
5
В благоустроенном имении Фигнера везде была видна рука рачительного хозяина. Но сам Николай Николаевич был не в духе: давала себя знать поврежденная ключица. Да и новая роль, за которую он вначале ухватился, теперь казалась ему неисполнимой. Он уже говорил Медее, что все бросит. Всякий раз, выучив роль, он начинал испытывать сомнения и мучил себя и Медею до самой премьеры.
«Я имени ее не знаю…» Фигнер начал эту арию вполголоса, но четко. Он всегда придавал большое значение декламации и теперь, в первую очередь, выразительно произносил слова.
…Нет, этого не следовало делать: слова не только не растворялись в музыке, как им полагается, они убивали ее. Чайковский обычно не замечал неудачных слов в опере; он слушал только музыку – то, что она выражает. Но сейчас, в арии Германа, слова как-то оскорбительно выделялись.
Как он не замечал? «Ты стал другой какой-то»,– говорит Томский, словно он так чуток и так хорошо знает Германа, что замечает в нем малейшую перемену. Но это еще не самое плохое. Герман признается Томскому, что любит незнакомку. Если он потеряет надежду (а выражено это гораздо грубее), тогда остается одно… «Что?» – бессмысленно спрашивает «чуткий» Томский. «Умереть!» – глухо, как из бочки, ответствует Герман. Весь диалог груб, прозаичен, монолог напыщен. А между тем, построенная на мотиве трех карт, ария Германа в музыкальном отношении безусловно интересна. Герман еще не знает Пиковую Даму, но музыка открывает нам его мрачное будущее: три карты.
Может быть, просто разгулялись нервы? Завтра все покажется сносным. Но ариозо [70] второй картины, которым Чайковский гордился, заставило его поморщиться, как от боли. Что за нелепый, случайный набор слов. «Красавица! Богиня! Ангел!» Почему «ангел» после «богини»? «Ты плачешь… Откуда эти слезы?» Дурацкий вопрос. Ради бога, Николай Николаевич, не произносите это с таким чувством. Каждое слово глупо.
Надо поговорить с Модестом. Так это не может оставаться. А ведь либретто отлично скроено. Модест знает законы театра, недаром он драматург. Действие у пего насыщенно, контрасты ярки. И он чуток: достаточно высказать ему основную мысль, и он правильно развивает ее; оттого и не замечаешь иногда, как плохи отдельные фразы. Но, может быть, он думает, что на сцепе не следует быть естественным?
И вот уже кажется, что и сама мелодия под влиянием неподходящих слов принимает какой-то неблаговидный оттенок. И самому певцу передается сентиментальность, слащавость. «Сле-е-зой своей со-о-грей». Как это можно согреть слезой?
Но наваждение длится недолго, потому что Фигнер искренне увлечен ариозо. Забыв про больную ключицу, он поет полным голосом, и слова уже не так оглушают. Можно о них забыть… Опять слушаешь с участием, понимаешь, что происходит: остановка, рубеж. Преклонение перед чистотой, забвение трех карт. Теперь Герман снова любит, искренне, пылко. Может быть, это его спасет?
– Ну как? – спрашивает Фигнер, переводя глаза с Медеи на Чайковского.– Хорошо?
Слова либретто не застревают у него в горле. Может быть, не так уж страшно? Чайковский доигрывает аккомпанемент и глубоко вздыхает. Слава богу, эта мелодия («Прости, небесное созданье»), повторенная на фортепьяно, смывает слова. Она совсем не слащава, она благородна. В оркестре она поручена виолончели и будет еще выразительнее. Разгоряченное лицо Фигнера и счастливые глаза Медеи ждут…
– Да,– говорит Чайковский, для верности повторив отыгрыш,– теперь хорошо.
6
Для своих романсов он не выбирал непременно гениальные стихи. Только один романс написал на слова Пушкина: «Соловей», и только один – на слова Лермонтова: «Любовь мертвеца». И это не лучшие из его романсов. Совершенство стихов применительно к музыке даже тяготило его: нельзя раскрашивать античные статуи. Слова, в которых так много сказано, не годятся для музыки, потому что музыка не иллюстрирует слова, а открывает новое. Но что можно открыть после Пушкина?