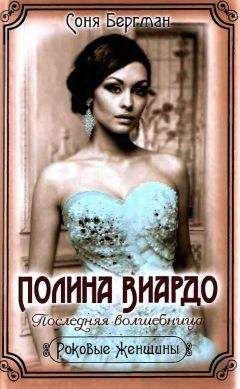Е. Бертельс - Низами
Полная противоположность - отец Лейли, жестокий и непреклонный, ни в чем не считающийся с желаниями дочери и тем губящий ее счастье. Как третий возможный тип отца, Низами показывает себя самого. В его обращенных к сыну словах звучит нежнейшая, преданная любовь. Но он не склонен потворствовать его прихотям. Он говорит о тех чертах характера сына, которые ему не нравятся, стремится отвлечь его от карьеры поэта, не сулящей, по его мнению, ничего хорошего. Он раскрывает перед сыном свои мысли о выборе профессии, дает советы, проверенные им на личном опыте.
Сопоставляя эти три вида отцовской любви, читатель может убедиться, что ни мягкость, ни суровость не могут обеспечить счастье детей, что отец должен быть на только главой, но и другом своего сына. Читателю становится понятно, что Низами ввел в поэму сказочное «моление о сыне» не ради украшения, а желая мотивировать этим чрезмерную уступчивость и мягкость отца Кайса.
Есть в поэме и четвертый отец. Это - ширваншах Ахсатан, по заказу которого писалась поэма. Включение особой главы, посвященной сыну Ахсатана, молодому Минучихру, подчеркивает то, что Низами обращается к Ахсатану именно как к отцу. Можно думать, что по мысли Низами ширваншах должен был сделать необходимые выводы и на примере «горестной истории» Лейли и Меджнуна найти для себя правильное отношение к сыну.
Таким образом, из крайне несложного арабского предания Низами удалось создать стройную поэму, привлекающую своей гармоничностью и своей органической спаянностью. Можно думать, что именно эти свойства поэмы, наряду с «литературным» характером ее героя, и обеспечили ей исключительный успех на всем Переднем Востоке.
Количество поэм, написанных в подражание «Лейли и Меджнун», крайне велико. Из более известных можно назвать: на персидском языке двадцать, на среднеазиатско-тюркском (староузбекском) - одну, на азербанджанском - три, на анатолийско-турецком (османском) - четырнадцать, на курдском - одну, на таджикском - две (возникшие уже в конце XIX века). Европейских читателей может удивить, почему эта тема могла так упорно привлекать к себе внимание. Но если учесть особенности быта, вспомнить об абсолютной родительской власти, о почти полной невозможности для молодежи мусульманских стран распоряжаться своей судьбой, то станет понятно, что на всем протяжении действия этого семейного уклада тема поэмы должна была находить себе живейший отклик почти во всех слоях общества. Вместе с тем понятно, что с разложением феодализма, с изменением уклада жизни должен был ослабеть и интерес к этой теме. Она хотя и звучит в новых романах, возникавших уже в наши дни в Турции и Иране, но претерпевает изменения, придающие облику несчастного влюбленного совершенно иной характер.
ГОДЫ СТАРОСТИ. «СЕМЬ КРАСАВИЦ»
Прошло около восьми лет, которые Низами, вероятно, провел, попрежнему отдавая свой досуг изучению доступных ему научных трудов и художественных произведений. Об этих годах его жизни мы ничего не знаем, да они, вероятно, и не были богаты внешними событиями. Но вот в его доме снова появился царский гонец, сообщивший ему такую весть:
Выведя молодой месяц из праздничной ночи
Так, чтобы из-под покрова мрака
Никто не мог разглядеть его от тонкости.
Была обещана и награда:
Труд твой проложит путь кладу.
Ведь уносит клад всякий, кто трудится.
На этот раз заказчик не счел себя вправе указывать поэту тему нового произведения и предоставил выбор самому поэту. Низами, приняв заказ, снова обратился к старым хроникам. Долго он перелистывал их страницы, пока, наконец, не остановил свой выбор на легенде о Бехрам Гуре. Так возникла четвертая поэма Низами «Семь красавиц», законченная, как он сам указывает, 31 июля 1196 года посреди ночи. Писалась она все в той же Гандже:
Я, который заключен в своей области,
И закрыт мне путь бегства взад и вперед,
Книгу привязал я к почтовой птице,
Дабы снесла она ее к шаху, а я освободился от заказа.
Заказ теперь пришел из Мераги от представителя династии Аксонксридов Ала-аддин Корпа-Арслана (1174-1207/1208). Шах этот, видимо, был любителем литературы, ибо известны и другие книги, ему посвященные. Упоминает Низами в своей поэме, кроме самого правителя, и двух его сыновей - Нусратаддин Мухаммед-шаха и Ахмед-шаха.
В годы, когда шла работа над новой поэмой, поэт, которому тогда уже было около пятидесяти пяти лет, начал чувствовать себя плохо:
Я, у которого свежести не осталось, как у ивы,
Тюльпан[56]] стал желтым, а фиалка[57]] - белой,
Я от недомогания перестал
Одевать кулах[58]] и опоясываться.
Служил я, как истинный муж,
Но, по правде, теперь я уже не тот муж.
Время схватило и так связало меня,
Обычай времени таков.
Когда я еще не падал, сломаны были у меня крылья.
Теперь, когда я упал, каково будет мне!
Из этих строк видно, что здоровье Низами пошатнулось. Но, невидимому, случилось и еще что-то. О каком падении говорит он? Речь может итти о каком-то несчастном случае, но возможно, что имеются в виду какие-то недоразумения с правителями. Во всяком случае, из обращения к богу в начале поэмы видно, что Низами опасается полной нищеты и молит охранить его от необходимости прибегать к кому-то за помощью:
Так как в дни юности, благодаря тебе,
Я от твоих врат ни к чьим вратам не ходил,
Ты всех посылал к моей двери,
Я не просил об этом, ты все же посылал,
То теперь, когда я пред твоим престолом состарился,
Помоги и защити от того, чего надо страшиться.
Из обращения к сыну видно, что Мухаммед все еще был при отце. Характер советов юноше меняется. Если раньше отец говорил о выборе профессии, то теперь он хочет направить его на путь той высокой моральной чистоты, которой отличался он сам. Поэт мечтает о том, что сын прославит его имя:
Чтобы там, где я заключен,
От твоего величия я был возвеличен.
Попрежнему Низами крайне сурово оценивает людей своего времени. Он утверждает, что в его дни успехом пользуются не те, кто этого достоин, а люди, которым случайно повезло. Более того:
От беды не в безопасности именитые,
Опасности не знает только дело тех, кто лишен ценности.
От притеснений и тирании страдает вся страна:
В этой гробнице нет муравья,
На котором не было бы клейма руки насилия.
Можно поэтому думать, что те страшные картины произвола и притеснения, которые Низами развертывает в последней части своей четвертой поэмы, введены в нее не случайно. Их назначение - обратить внимание повелителя на истерзанный народ, заставить его присмотреться к действиям его беков и прочих носителей власти.