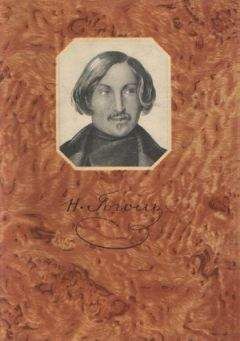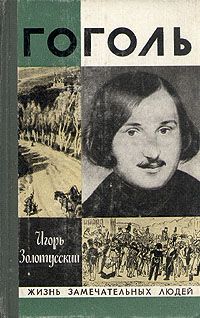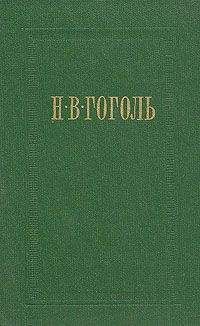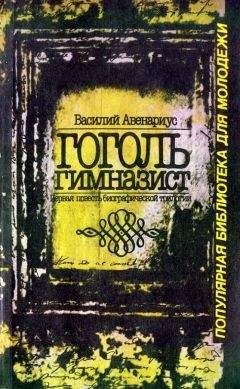Марианна Басина - Петербургская повесть
В начале 1834 года Гоголю снова не повезло. На этот раз из-за отрывка «Кровавый бандурист», отданного в журнал «Библиотека для чтения». На заседании Петербургского цензурного комитета Никитенко заявил, что не может пропустить отрывок, так как это «картина страданий и унижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы». А романы новейшей французской школы по распоряжению высшего начальства не велено было пропускать.
О переводе романа Гюго «Церковь Парижской Богоматери» министр просвещения Уваров сказал Никитенко:
— Роман Гюго превосходен, но нам еще рано читать такие книги.
Власти боялись всего, и цензоры, не обладая даром ясновиденья, часто попадали впросак. Попал в историю и Никитенко. Не мысля худого, он пропустил в журнале «Библиотека для чтения» перевод стихотворения Гюго «Красавице». Поэт в нем высказывал мысль: если бы я был богом, то отдал бы свой рай, своих ангелов и свое могущество за поцелуй красавицы. Стихи как на грех попались одному святоше. Он поспешил донести митрополиту Серафиму. Митрополит взбеленился: кощунство! богохульство! Бросился во дворец, испросил аудиенцию, прочитал стихи царю и умолял защитить веру и церковь от поругания. Николай приказал отправить Никитенко под арест.
Цензоры боялись собственной тени. И, отдавая в цензуру «Арабески», Гоголь с тревогой ждал всяких «зацеп».
«Арабески» попали к цензору Семенову. Сперва, кроме «секуции», все проскочило. Книга ушла в типографию. А тут и с Семеновым приключился казус. Он получил строгий выговор от министра за то, что позволил в журнале «Сын отечества» назвать какую-то святую «представительницей слабого пола». Семенов насторожился. В канун нового 1835 года Гоголь послал записку Пушкину: «Вышла вчера довольно неприятная зацепа по цензуре по поводу Записок сумасшедшего. Но слава богу сегодня немного лучше. По крайней мере я должен ограничиться выкидкою лучших мест».
Напуганного Семенова одолевали сомнения: можно ли вообще пропустить в печать эту повесть о ничтожном чиновнике, который, сойдя с ума, как бы прозревает, видит всю неприглядность окружающего и по праву, данному ему безумием, называет вещи своими именами. Макая перо в красные цензорские чернила, Семенов начал вычеркивать…
Когда Гоголь получил из цензуры рукопись, она ему показалась исполосованной в кровь. Он читал и мрачнел. «Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин». Про дворянина цензор вычеркнул. «Папа… после обеда поднял меня к своей шее и сказал: „А посмотри, Меджи, что это такое“. Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец, потихоньку, лизнула: соленое немного». Так рассуждает собачка Меджи об ордене, полученном отцом ее хозяйки. Вычеркнуто. «Куда ж, подумала я сама в себе, — пишет собачка Меджи, — если сравнить камер-юнкера с Трезором! Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки, совершенно не те. О, какая разница!» Вычеркнуто… «Всё, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам или генералам, — жалуется Поприщин. — Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал». Вычеркнуто. Все политические навеки вычеркнуты. Все упоминания государя — вычеркнуты. Даже последняя фраза: «А знаете ли, что у французского короля шишка под самым носом?» — и та вычеркнута: намек на июльскую революцию во Франции, на свергнутого короля Карла X.
Гоголя так и подмывало повесть изорвать и отправить в печку вместе с цензорскими пометками. Но сдержался. Кляня все на свете, ругая на все лады глупую цензуру, принялся сводить концы с концами. Свел, перечитал и озаглавил не без злорадства, будто мстя кому-то: «Клочки из записок сумасшедшего».
Так и пошло в печать.
«Записки сумасшедшего». Рисунок И. Репина. 1870 г.«ТОЛЬКО УСЛЫШАТЬ ПРАВДУ»
«Арабески» вышли в январе. «Миргород» — в марте 1835 года. Третий раз в своей жизни Гоголь настороженно листал газеты и журналы — ждал суда критики.
На что он мог рассчитывать здесь, в Петербурге, где тон задавали булгаринская «Пчела» и «Библиотека для чтения»? Этот новый журнал, издававшийся на деньги Смирдина, редактировал Сенковский. В недавнем прошлом профессор университета по восточным языкам, ныне азартный журналист, Сенковский с циничной откровенностью старался всячески угодить почтеннейшей публике, увеличить число подписчиков. В журнале его было все: словесность, наука, промышленность, новости, моды и даже советы, как гасить загоревшуюся в трубе сажу, лечить чахотку и красить нитки. Сам он много писал. Его любимый псевдоним был «Барон Брамбеус». Гоголь называл его писания «брамбеусина».
«Арабески». Титульный лист.И вот в февральском номере «Библиотеки для чтения» появился отзыв об «Арабесках». Настоящая «брамбеусина» во всей ее красе: глумливая, развязная, небрежно-снисходительная. Статьи Гоголя Сенковский смешал с грязью, а кое-что в повестях свысока похвалил. «Некоторые его страницы в шуточном роде непритворно смешны, и развеселят самого угрюмого человека». Это говорилось о «Невском проспекте» и «Записках сумасшедшего». «Клочки из записок сумасшедшего… были бы еще лучше, если бы соединялись с какою-нибудь идеей». «По роду своего дарования он мог бы смешить и писать хорошие сказки».
В мартовском номере «Библиотеки для чтения» Гоголь обнаружил рецензию и на «Миргород». «Вот это совсем другое дело! — оповещал Сенковский. — Тут нет ни Всеобщей истории, ни Изящных художеств, есть только сказки, и г. Гоголь, у которого мы уже в прошлом месяце заметили особенное дарование рассказывать шуточные истории». Так судила «Библиотека для чтения». Ей вторила «Северная пчела»: «Вообще карикатуры и фарсы, всегда остроумные и забавные, всегда удаются г. Гоголю». «Северная пчела» и «Библиотека для чтения» расходились по всей России, и обе наперебой старались внушить читателям, что г. Гоголь всего лишь мастер смешить, рисовать карикатуры, что, к сожалению, он несколько «грязен», так как любит зачем-то изображать неприглядную сторону жизни.
Каково было Гоголю читать подобные суждения… Он не верил, не мог, не хотел верить, что его повести, писанные кровью сердца, извлеченные из недр души, порожденные ненавистью к несправедливости, злу и пошлости, любовью к людям, могут не дойти до сердца читателей, оставить их равнодушными, быть восприняты как фарсы. Но порой брало сомнение. А вдруг он ошибается, вдруг его голос — глас вопиющего в пустыне, проповедь святого Антония рыбам. Рыбы, как известно, с удовольствием выслушали речь святого и остались такими же жадными и хищными.