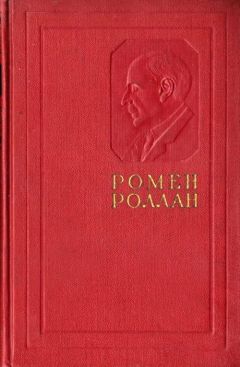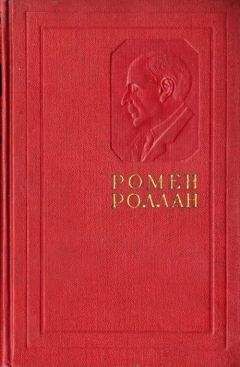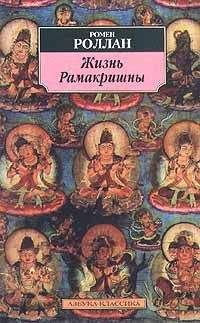Ромен Роллан - Жизнь Толстого
Сперва опьянение свободой, боренье противоречивых страстей в бурной ночи, иногда освещаемой ослепительными вспышками молнии, – восторги любви и творчества, видение вечности. Годы, проведенные на Кавказе, в Севастополе, – годы юношеских смятений и тревог… Потом глубокое умиротворение первых лет супружества. Счастье любить, творить, наслаждаться красотой природы. «Война и мир». Расцвет гения, который способен объять весь земной горизонт и увидеть ход исторических битв, уже отошедших в прошлое. Его душа властвует над ними, но эта власть уже не удовлетворяет его. Подобно князю Андрею, он устремляет свой взор к беспредельному небу, льющему свет над Аустерлицем. Это небо и притягивает его:
«Есть люди с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. Помоги бог!»[268]
Эти слова были написаны в разгар страшной грозы, и «Исповедь» является отголоском этой грозы – воспоминанием о ней. Толстой не один раз был сброшен на землю с поломанными крыльями. И каждый раз он упорно взлетает вновь. В необозримом, глубоком небе он парит на мощных крылах, из которых одно – разум, другое – вера. Но и там он не обретает вожделенного покоя. Ибо небо не вне нас, а внутри нас. И там-то разражается буря страстей Толстого. Это отличает его от апостолов, ибо и в самоотречение вкладывает он тот же пыл, что и в саму жизнь. Он объемлет жизнь со страстностью влюбленного. Он «ошалевает от жизни». Он «пьян жизнью». И без этого опьянения он не может существовать.[269] Он опьяняется и счастьем и несчастьем одновременно.
Он пьян и смертью и бессмертием.[270] Его отречение от личной жизни – не что иное, как страстный и восторженный порыв к жизни вечной. Ведь тот покой души, к которому он стремится, которого достигает, это отнюдь не покой смерти. Скорее это покой воспламенившихся миров, носящихся в бесконечном пространстве. Для него гнев – успокоение,[271] огнедышащее успокоение. Вера вооружила его заново на беспощадную борьбу с ложью современного общества, изобличать которую он начал еще самыми первыми своими произведениями. Теперь он уже не ограничивается, как прежде, тем, что выводит отрицательные персонажи в романах; он крушит самые почитаемые кумиры: лицемерие религии, церкви, науки, искусства, либерализма, социализма, народного образования, благотворительности, пацифизма.[272] Он беспощадно бичует, яростно опрокидывает установившиеся предрассудки.
Время от времени миру являются великие мятежные умы, которые, подобно Иоанну Предтече, провозглашают анафему развращающей цивилизации. Последним из таких пророков был Руссо. Он предвозвещал появление Толстого, с которым его роднит и любовь к природе,[273] и ненависть к светскому обществу, и страсть к независимости, и пылкая приверженность к евангелию, и проповедь христианской морали. Сам Толстой говорил о своейблизости с Руссо: «Иные из его страниц глубоко волнуют меня, мне кажется, будто я их написал».[274]
Но как разнятся оба они по своему душевному складу, и насколько Толстой ближе к пониманию христианского духа! Руссо недостает смирения, фарисейское высокомерие обнаруживается в дерзком возгласе его «Исповеди»:
«Предвечный! Пусть хоть один скажет тебе, если посмеет: я был лучше, чем этот человек!»
Или в том вызове, который он бросает миру:
«Я объявляю громко и без боязни: всякий, кто сочтет меня бесчестным человеком, заслуживает удушения».
Толстой кровавыми слезами оплакивает «преступления» своей прошлой жизни:
«Я теперь испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет! Какое было бы мучение, если бы я в этой жизни помнил всё дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни».[275]
Толстой не мог бы написать в своей «Исповеди», как Руссо: «Чувствую, что хорошего было больше, чем дурного, и потому в моих интересах написать все».[276] Толстой после первой же попытки отказывается от намерения написать «Воспоминания», у него перо выпадает из рук при мысли, что жизнь его может стать дурным примером для тех, кто прочтет эти «Воспоминания»:
«Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и бог велел».[277]
Руссо был чужд того душевного целомудрия и смирения, которые присущи верующему христианину и которые осенили таким чистым светом старость Толстого. Памятник Руссо, воздвигнутый на Лебяжьем острове, вырисовывается на фоне собора св. Петра в Женеве, этом Риме кальвинистов. У Толстого нам слышится отзвук наивных рассказов странников и юродивых, которые до слез трогали его в детстве.
Но последние тридцать лет жизни Толстого посвящены уже не только борьбе против предрассудков общества, роднящей его с Руссо, а великолепной битве между двумя могущественными силами его души: Правдой и Любовью.
Правда – «этот взгляд, идущий прямо в душу», проникновенный свет его серых глаз, которые видят всё… Правда – самая первая его вера, владычица его творчества.
«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда».[278]
Правда – единственное, что уцелело после бури отчаяния, вызванного смертью брата.[279]
Правда – опора всей его жизни, утес посреди бушующего океана…
Однако уже очень скоро ему недостаточно стало «ужасной правды»! Ее вытеснила любовь. Любовь – живой источник, питающий его в детстве, «естественное состояние его души».[280] Когда наступил нравственный перелом 1880 г., он не отрекся от правды, он поставил ее на службу любви.[281]
Любовь – «основа энергии».[282] Любовь – «смысл жизни», в ней одной – красота.[283] Любовь «сущность души» умудренного жизнью Толстого, автора «Войны и мира» и письма синоду.[284]
Насыщение правды любовью составляет неповторимую ценность шедевров Толстого, написанных им в период зрелости, nel mezzo del commin,[285] – именно эта особенность реализма Толстого отличает его от реализма в духе Флобера. Флобер полагал свою силу в том, чтобы не любить своих героев. Именно любви и недостает этому великому мастеру: Fiat lux![286] Солнечного света еще недостаточно, нужен жар сердца. Силою своего реализма Толстой воплощается в любом существе и, увидев его как бы изнутри, находит даже в самом ничтожном то, за что его можно любить, что роднит его братским единением со всеми людьми.[287] И силою своей любви он проникает до корней жизни.