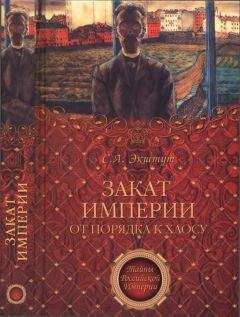Вениамин Каверин - Эпилог
Потом я узнал, что в этот день Маяковский встретился с читателями на одном из ленинградских заводов и кто-то снова, в тысячный раз, упрекнул его в неумении или нежелании выражать свои мысли ясно и доступно для всех.
Мы попросили его прочитать стихи, и он тотчас же согласился. Никогда не забуду той сдержанности, той безнадежности, с которой он прочел в тот вечер свое стихотворение «Сергею Есенину». Стали просить еще что-нибудь. Он отказался.
Мы разошлись поздно, должно быть, часа в три ночи. Ворота были закрыты, и, пока ходили за дворником, один актер, которому было, вероятно, лет двадцать, подтянулся на большом воротном крюке и попытался сделать «лягушку». Единственный раз за весь вечер Маяковский улыбнулся — доброй улыбкой усталого человека. Большой проспект Петроградской стороны был пуст. Шел мелкий дождь. Трамваи давно не ходили. Проклятая застенчивость, еще долго отравлявшая мою жизнь, снова помешала мне заговорить с Маяковским, и теперь я молча шел рядом с ним, сердясь на себя и думая о том, что он, без сомнения, даже не слышал моей фамилии. Я ошибался. Именно в этот день, когда читатели упрекали Маяковского в ненужной сложности, ка-кой-то глупый человек прислал ему записку, в которой хвалил мой слабый роман «Девять десятых судьбы», и Маяковский, отвечая, пренебрежительно отозвался об этой книге, хотя (как он сам признался впоследствии) он ее не читал. Ничего этого я не знал и был поражен, когда, прощаясь (мы наконец нашли извозчика, дремавшего на козлах где-то на углу Пушкарской), Маяковский пожал мою руку и сказал:
— Не сердитесь, я еще буду читать ваши книги.
9Самоубийство — всегда тайна, и попытки разгадать ее почти неизбежно обречены на неудачу. Отмечу лишь, что, может быть, самая страшная по своей беззвучной выразительности сцена рассказана Игорем Ильинским в его воспоминаниях. Последний раз он видел Маяковского после провала «Бани» в Театре Мейерхольда: «Он стоял в тамбуре вестибюля один и пропустил всю публику, выходящую из театра, прямо смотря в глаза каждому проходящему. Таким остался он у меня в памяти».
Когда случилось несчастье, Зощенко напомнил мне о своем предсказании, которому я не придал никакого значения. Антокольский через несколько дней после похорон написал мне письмо, в котором была попытка вглядеться в мертвое лицо поэта.
Никто из друзей не мог — да и не пытался — вообразить всю огромность причин, заставивших Маяковского решиться на этот шаг. Но, оценивая всю несправедливость гибели в тридцать шесть лет, все говорили о той лежавшей рядом причине, которую невозможно было скинуть со счетов.
10О последних годах жизни Маяковского написал В.Перцов[35], не упустивший, кажется, ни одного факта из биографии поэта, чтобы не воспользоваться им как доказательством преданности поэта революции и ее идеалам! Даже полная горечи предсмертная записка Маяковского пригодилась для этой незатейливой задачи.
— Страна, в которой один из лучших поэтов, умирая, думает о фининспекторе?! Какой позор! — с негодованием заметил Тынянов.
«Даже в такой момент, когда “я с жизнью в расчете”, поэта беспокоит вопрос о расчете по подоходному налогу», — с умилением пишет В.Перцов, утверждая, что «щепетильность» Маяковского свидетельствует о сознании долга перед государством. Но Маяковский ничего не был должен государству. Напротив, государство было в неоплатном долгу перед ним.
11Его последнее письмо заставляет задуматься о многом. Вот оно:
«Всем
В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.
Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня.
Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят —
“инцидент исперчен”, любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете,
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
Счастливо оставаться.
Владимир Маяковский.
12/IV-30 г.
Товарищи Вапповцы, не считайте меня малодушным. Сериозно — ничего не поделаешь.
Привет.
Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться.
В. М.
В столе у меня 2000 руб. — внесите в налог.
Остальное получите с Гиза.
В.М.».
Это письмо человека, который из последних сил пытается скрыть отчаяние, замаскировать его вынужденной шуткой. Оно настроено на почти беспечный тон. Но остроумие — вымученное, не звеневшее, глухое — это ли Маяковский?..
Лилю Брик он просит «любить его» — зачем это нужно знать «всем»?..
Ермилову просит передать сожаление: «Надо бы доругаться». Так уж и надо?..
Стихотворные строки письма уводят в сторону, заслоняя подлинное душевное состояние. Самое неточное в них — «перечень взаимных болей, бед и обид». Почему взаимных? Он не считал обиженными тех, кого обижал в стихах, это была борьба не личная, литературная. Недаром же он пригласил всех «обиженных» на свою выставку «20 лет работы»! А уж о бедах нечего и говорить, — не он унизил, а его — обидели, оскорбили…
Верно поняли письмо Маяковского только беспризорники. Они-то и угадали в нем трагическую самоиронию. В траурные дни на улицах Москвы и Ленинграда они распевали:
Товарищи правительство, пожалей мою маму,
Береги мою лилию сестру.
В столе лежат две тыщи —
Пусть фининспектор взыщет,
А я себе тихонечко умру.
В.Полонская, единственный человек, оставшийся с Маяковским после того, как от него отвернулись друзья и даже «ветераны движения, им самим созданного», пишет в своих записках, хранящихся в ЦГАЛИ:
«Помню вхождение Маяковского в РАПП. Он держался бодро и все убеждал, что он прав и доволен вступлением в члены РАППа. Но чувствовалось, что он стыдится этого, не уверен, правильно ли он поступил перед самим собой. И хотя он не сознается даже, но приняли его в РАПП не так, как нужно и должно было принять Маяковского». Как же его принимали? Нужна была рекомендация (!) — и ее написал (в сдержанных тонах) секретарь РАППа Сутырин. Маяковский выслушал строгое нравоучение — «порвать с грузом привычек и ошибочных представлений».
«Помню, как, прислонясь к рампе на эстраде, он хмуро взирал на пояснявшего ему условия приема рапповца, перекатывая папироску из угла в угол рта» (Асеев. Воспоминания. М., 1960).