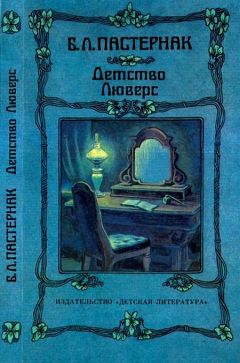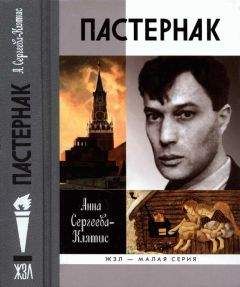Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна
После Узкого Зелинский принялся за эту статью. Под Новый, 1958 год он явился к нам в два часа ночи, душил в объятиях и целовал Борю и меня и пил с нами шампанское. А через месяц, в феврале, мы узнали, что статью он написал, и она ужасная, совершенно ругательная. Боря запретил нам доставать ее и читать. Я сказала ему только: «Какой ужас, что мы целовались с этим человеком!»
Как-то я пришла к Погодиным, с которыми очень дружила. Погодин держал в руках журнал, где было напечатано стихотворение «Рассвет», и принялся толковать его. Он сказал, что «Всю ночь читал я твой завет» означает заветы Ильича, и ему непонятно, почему Пастернак хочет всех поставить перед собой на колени. Я возмутилась и разгоряченно сказала, что надо грамотно читать стихи, там нигде не сказано, что он хочет кого-нибудь поставить перед собой на колени, и завет не Ильича, а Бога, которого забыли после войны, и Боря хочет напомнить людям про него, чтобы они были мягче, чтобы не лилось крови, не было бы зверств, арестов и расстрелов. Я никогда до того не спрашивала Борю, что значат эти строки, а сама удивилась, как решилась их расшифровка. Придя домой, я взволнованно передала Боре весь разговор с Погодиным и спросила его, правильно ли я толковала это стихотворение. Он подошел ко мне, поцеловал меня и сказал: «Ты умница, все, что ты сказала, верно».
Как-то кто-то приехал из города и рассказал про случай на каком-то писательском собрании. Там говорили о стихотворении «Свеча горела на столе…» и высказали мнение, что оно относится к Февральской революции. Опять, не спрашивая его, я отвечала, что, насколько я понимаю, это стихотворение ничего общего с революцией не имеет и посвящено любви. Боря засмеялся и тоже сказал, что я совершенно права. Но я никогда без повода не спрашивала, что означают те или иные его строки. Как-то все в его творчестве мне было понятно, и я научилась не подкапываться под них и воспринимать их так, как они написаны. Открытому складу его ума и характера было свойственно ничего не затемнять и не напускать ложного глубокомыслия в стихи. Мне всегда были смешны те люди, которые усиленно искали какого-то тайного смысла в его строчках. Иногда обстоятельства заставляли его маскировать истинные чувства и события его жизни, но это было очень редко. Так, в пятнадцатой главе «Охранной грамоты», написанной после знакомства со мной, он говорил о гении и красавице. Люди неосведомленные думали, что гений – Маяковский, красавица – Лиля Брик. На самом деле он писал о себе и обо мне. Если бы это не было подтверждено в одном из его писем ко мне, я бы не осмелилась это утверждать, хотя он часто говорил мне об этом.
Точно так же, не желая, по-видимому, обидеть свое последнее увлечение О. И., он давал совершенно неправильные комментарии за границу. Мне потом пришлось читать, что Лара – это О. И. Прочитав такой журнал, я сказала, смеясь, Боре: «Автор ссылается на твои слова, а мне все это странно, так как вся судьба Лары и ее связь с Комаровским похожа на мою судьбу» [127]. Он мне ответил: «Лара – это сборный образ, и тут много от тебя и от других женщин».
Седьмого апреля 1961 года меня срочно вызвала редакторша сборника Крючкова. Это было в Страстную пятницу. Мы с Борей не были религиозны, не верили в обряды, не ходили в церковь, но мы поэтизировали этот праздник, и по старой родительской традиции я всегда пекла куличи, делала пасху и красила яйца. Я была вся в муке, руки были в краске от яиц, когда Т.В. Иванова прислала записку о том, что я должна немедленно ехать в город для свидания с Крючковой. Ее машина уходила через десять минут. Мне пришлось наспех одеться, и я побежала в Борин кабинет взять однотомник, собранный в 1957 году, и старые издания его книг. Чемодан оказался очень тяжелым, и я его с трудом дотащила до машины Ивановых.
Ходили слухи, что однотомник будет очень приличный, и я ехала в Москву в хорошем настроении. От Ивановых, к которым была приглашена для встречи со мной Крючкова, я позвонила Жене, так как Леня был в университете, и вызвала его. Я опасалась, что по мягкости характера буду делать излишние уступки. Через полчаса все были в сборе, и работа началась.
Крючкова зачитала оглавление стихов, вошедших в сборник. Я была в ужасе. Предложенные комиссией пятнадцать листов превратились в девять. Мало того, что объем книги был сокращен в полтора раза, но меня удивил и огорчил подбор стихов. По-моему, было очень важно осмотрительно выбирать, поскольку это была первая книга после большого перерыва и после скандала с Нобелевской премией. Но меня утешали и говорили, что само по себе издание этой книги является реабилитацией в глазах читателей, и я должна благодарить судьбу за эту книгу, как бы она ни была составлена. Я в корне была с этим не согласна. По-моему, надо было отобрать самое прекрасное, а непонятное для теперешней публики пока не печатать. В противном случае выход однотомника мог только повредить. Как оказалось, в него попали самые сложные и менее доступные стихи, а прекрасная доходчивая лирика была изъята.
Но мы с Женей и редакторшей решили пока править существующий сборник. Возник спор о старых и новых вариантах. Я пыталась отстаивать старые варианты, которые и до сих пор мне кажутся наилучшими. Крючкова оказалась обаятельной молодой женщиной, но, по моему мнению, она плохо понимала и мало знала Борино творчество. Женя торопился на службу и, побыв с нами около часу, ушел, а я продолжала работать с Крючковой. Нужно было выверить варианты ко всем изданиям, и мы просидели с ней с двух до восьми часов вечера. Это стоило не только физических усилий, но и большого душевного напряжения. Все внутри кипело. Неудачный выбор казался мне неслучайным. Я сказала об этом Крючковой, но она меня не поняла. Так же как и все, она говорила: спасибо и за то, что эту книгу вообще издают. Расставаясь с Крючковой, я предупредила: ничего из состава сборника выкидывать не стану, а буду бороться за включение дополнительных стихов, и пусть она и не думает в таком виде отдавать книгу в верстку. Она согласилась подождать, но не больше двух недель. Я вернулась домой усталая и разбитая.
По традиции на первый день Пасхи у нас собрались близкие друзья и знакомые на обед. Когда я им рассказывала о встрече с Крючковой, я вторично пережила сильное волнение и вдруг почувствовала себя дурно. Поднялись дикие боли в сердце, закружилась голова. Мне пришлось бросить гостей на гостившую в то время у меня Нину Александровну и уйти в свою комнату. Уже поздно вечером Стасик поехал за местным врачом. Тот велел вызвать сестру и сделать пантопон. Диагноз он не поставил, для этого ему необходимо было видеть кардиограмму сердца. Кроме Нины Александровны Табидзе, у меня гостили Ирина Николаевна с Шурой.
Они уложили меня в постель и вызвали ко мне сестру. Через десять минут после пантопона я уже спала. На другое утро я проснулась как ни в чем не бывало, боли утихли, и я наотрез отказалась лежать. В семь часов вечера повторилась та же картина. Тут я поняла, что это какое-то серьезное заболевание.
Меня перевели в маленькую комнату, где болел и умирал Боря. Это облегчало уход за мной. Опять вызвали сестру с пантопоном, а на другое утро позвонили в литфондовскую поликлинику с просьбой позвать врача и сделать кардиограмму. Сначала приехала Берта Абрамовна Гинзбург, заведующая терапевтическим отделением поликлиники. Она поставила диагноз – болезнь печени, которая часто провоцирует сердечные заболевания. Велела лежать, назначила диету, лекарства от печени. Электрокардиограмму сделали на другой день. Приехала мой лечащий врач Маргарита Павловна Абатумян, посмотрела кардиограмму и нашла, что у меня глубокой трехсторонний инфаркт миокарда. Если я осмелюсь подняться с постели, сказала она, или даже попытаюсь сама есть, то могу тут же умереть. Я разрыдалась. Я чувствовала себя хорошо и не поверила ей. Она предложила позвать другого врача. Это была моя первая серьезная болезнь за шестьдесят пять лет. Я всю жизнь трудилась и обслуживала себя, никогда никого не затрудняла, а тут меня должны были кормить с ложечки, проделывать туалетные манипуляции и т. д. Ирина Николаевна и Нина Александровна по очереди дежурили по ночам около меня и работали по дому. Все это меня волновало, и я чувствовала себя глупо; у меня ничего не болело, а они всячески хлопотали и суетились около меня. Каждую неделю делали кардиограмму и анализ крови. Подтверждали этот диагноз только повышавшаяся по вечерам температура и большая РОЭ. На второй же визит я сказала Маргарите Павловне: «Не обижайтесь, пожалуйста, но я хочу вызвать другого специалиста, я не верю в диагноз». Она улыбнулась и посоветовала, не откладывая, пригласить кого хочу.