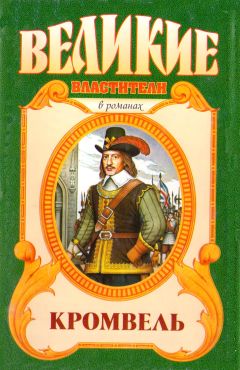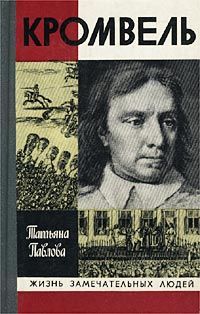Иван Стаднюк - Исповедь сталиниста
Вернулся я в редакцию с тяжелым сердцем: предстояло еще какое-то время жить в тревоге. Лучше бы уж сразу все решилось. В атаки было ходить проще, чем томиться перед неизвестностью, зная, что человеческая мстительность при отсутствии здравого смысла бывает беспредельной. А офицер, поднявший руку на другого офицера, пусть младшего по званию, да еще не в экстремальной обстановке, не мог быть порядочным человеком. Впрочем, рукоприкладство на фронте не являлось редкостью. Пример этому подавали даже иные именитые генералы высоких званий и находившиеся на высших командных должностях. Свои поступки они оправдывали остротой боевых ситуаций и необходимостью повысить расторопность и находчивость исполнителей приказов. Вот и допускали унижение человека и насилие над ним. Но пользы от этого не было. Только озлобление…
В редакции я застал приехавшего из Москвы нового редактора подполковника Ушеренко Якова Михайловича. Выше среднего роста, полнотелый, розово-круглолицый. Темные глаза его смотрели пронзительно, чуть из-подо лба. Полные губы, родинка на щеке рядом с крупным носом, густая черная шевелюра. Угадывался в нем совсем невоенный человек. До приезда на фронт он был редактором газеты Московского военного округа «Красный воин», а до войны — редактором «Правды» по разделу литературы Все мы сразу же почувствовали в новом редакторе человека высокого интеллекта и большой эрудиции. Поначалу даже робели при разговоре с ним.
Представляясь новому редактору, я попросил его перевести меня с должности ответственного секретаря на «боевую» работу — в армейский отдел или группу информации. Объяснил это тем, что имею военное образование, боевой опыт и желание чаще бывать на передовой. Действительно, мне очень хотелось писать самому, а не редактировать чужие материалы, составлять макеты и вычитывать гранки.
— Позвольте, но ведь вы и рассказы пишете? — Оказалось, что Ушеренко при назначении его редактором «Мужества» листал в Москве, в отделе печати Главпура, подшивку нашей газеты.
— Да так, балуюсь, — снисходительно к самому себе сказал я.
— В литературе баловаться нельзя, — назидательно изрек Ушеренко. — Или серьезно надо писать, или не браться за писательство. Увлечетесь, а способностей может не оказаться, и сломаете себе судьбу.
Я был озадачен, даже обескуражен, ибо был уверен, что, окажись у меня много свободного времени, я смогу писать хоть романы. Это было приятное заблуждение, ибо даже элементарных понятий о законах художественного творчества, теории литературы у меня не было Писал интуитивно, не различая, где я пересказываю события, а где изображаю их. Все эти постижения окажутся для меня впереди.
Разговор продолжался. Яков Михайлович стал вспоминать о своей работе в «Правде», встречах и сотрудничестве с именитыми писателями. Называл такие фамилии, что у меня дыхание перехватывало, и я уже смотрел на редактора как на человека совсем необыкновенного.
Мне везет в жизни на неординарные случаи и совпадения. Вот и во время нашего в Ушеренко разговора раздался стук в дверь. На пороге просторней горницы встал улыбающийся капитан Давид Каневский. Неумело отдал честь и доложил:
— Товарищ подполковник, к нам в редакцию приехал гость…
Вслед за Каневским вошел высокий мужчина с бледноватым лицом, кустистыми с проседью бровями, на вид лет под пятьдесят. В моем тогдашнем понимании — глубокий старик…
— Писатель Иван Ле, — спокойно представился мужчина.
Ушеренко поднялся ему навстречу, начались рукопожатия, не обошедшие и меня, ошалевшего от неожиданности.
— Здравствуйте, Иван Леонтьевич! — Ушеренко довольно посмеивался. — Мы с вами знакомы… Раздевайтесь.
Боже! Тот самый Иван Ле, творчество которого мы изучали в десятилетке как классика украинской литературы! У меня были свежи в памяти его повесть «Юхим Кудря», «Роман межгорья»… Происходящее казалось неправдоподобным. Я пришел в себя только после того, как Каневский достал из-под шинели бутылку с самогонкой и поставил ее на стол, а Ушеренко, взглянув на меня и кивнув головой на дверь, приказал: «Позаботьтесь о закуске».
Разыскав старшину Дмитриева, я передал ему распоряжение редактора и объяснил, что скупиться нельзя…
Вернуться в дом редактора не посмел, а приглашения не последовало.
Вечером я сидел за какой-то работой и прислушивался к шумам с улицы. Почему-то надеялся, что Давид Каневский и Иван Ле придут ко мне. Даже купил у соседей бутылку самогонки, а хозяйку дома, где я был на постое, попросил сварить картошки и достать из погреба соленых огурцов, какими она меня уже угощала. Загремела дверь в сенях, затопали сапоги, в комнату зашли желанные гости. Давид с ходу обратился с просьбой:
— Майор Стаднюк, есть мнение, чтобы ты уступил свою хату Ивану Леонтьевичу. Она поприличнее других.
— Согласен, если писатели окажут честь и выпьют в этой хате по чарке горилки.
Возражений не было. Мы перешли на украинский язык. Я имел счастье впервые в жизни сидеть в застолье с известным писателем, не подозревая, что впереди нас ждут еще многие встречи.
21Ушеренко не отпускал меня с секретарской должности. Может, потому, что у меня была провинциальная привычка всему удивляться с чрезмерностью. Это его развлекало, и, когда мы оставались вдвоем, он с умыслом рассказывал что-либо необыкновенное из довоенной московской жизни, из приключений «правдистов», что меня, к его удовольствию, потрясало до икоты.
Но однажды и я его подразвлек. Случилось это там же, на Правобережной Украине, когда редакция, следуя за армией, переехала в очередное село. Войдя в отведенную для секретариата хату, я, как обычно, стал рассматривать образа, в которых мало что понимал, затем многочисленные фотографии на стенах, взятые под стекло в одной общей раме. Мое внимание привлекла самая нижняя коллективная фотография военных, над которыми было развернуто знамя. Присмотревшись к фотографии, я ахнул: узнал свою курсантскую роту из Смоленского военно-политического училища! Фотографировались мы на наружных ступеньках здания училища в день присвоения нам звания «младший политрук». Догадался, что на фотографии наверняка есть кто-то из этого дома. Кто же это?.. Вошла со двора хозяйка и поставила на скамейку ведро с водой. Не выдавая своего нетерпения, спросил у нее:
— Тут кто-нибудь из ваших есть? — и указал на фотографию.
Вытирая фартуком руки, женщина подошла к простенку, где висела рама с фотоснимками.
— Прятала их от немцев, как от огня, — она тяжело вздохнула и указала пальцем. — Вот сыночек мой.