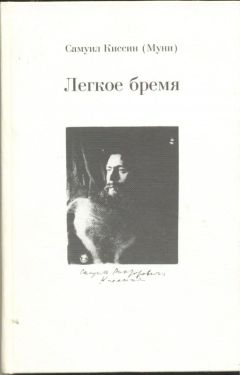Самуил Киссин - Легкое бремя
Владислав.
25 марта 909.
Москва.
3. С.В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
[Открытка. 5. 6.1909 — 9. 6.1909, Москва]
Ст. Московско-Нижегородской ж. д. Новогиреево Имение Старогиреево Е<го> В<ысоко>б<лагородию> Владиславу Фелициановичу Ходасевичу
Так как, Владя, я не совершенно уверен, что это письмо к тебе дойдет, то пишу на открытке. О тихости ли совершенной здешних мест писать? Да, тихо здесь. Вот все. Потому причина моего письма узнать о твоих делах и жизни, более, нежели рассказать о своих. К тихости ибо у меня все сводится. Итак, пиши: 1) Твой адрес, 2) Что ты делаешь, 3) Чего ты не делаешь, не хочешь делать, 4) Как тебе приходится и 5) Что с Белым, 5а) О книжках.
Лида тебя приветствует. Я целую. Адрес мой: ст. Михнево Рязано-Уральской ж.д. Имение Теремец. Твоего адреса не знаю. Пишу наудачу.
Твой Муни.
4. В. Ф. Ходасевич — С. В. Киссину
Боже ты мой! Бывает же у Человека такой дар слова! Очень уж ты, Муничка, спросил хорошо: «Как тебе приходится?» Вот» то-то и есть, что именно «приходится», и невыносимо. Главное и вечное мое ущемление: деньги. Право, многое влечет оно за собой! А где взять? Написал раз для Русского Слова — оказывается, об этом писали три дня назад, я проглядел. Написал в другой раз, фельетон. Повез в Москву. На вокзале раскрываю газету — готово. О том же — Сергей Яблоновский[74]. Написал в третий раз
усомнился, не была бы провокация, оставил «в своем портфеле». То есть, куда ни кинь — все Клин.
Что я делаю? Ничего. Прочел я книгу Мережковского о Лермонтове[75]. Ну, сам знаешь. Прочел Коня Бледного (он вышел в «Шиповнике») — и огорчился. К чему Мер<ежков>ские огород городят?[76] Я не говорю про отдаленных потомков, но у них самих с нынешними с.-р. (или прошлыми?) — ничего не выйдет. От ропшинской книги скучно. Айхенвальд глуп-глуп, а кое-что учуял[77]. Только не «психология революционера» «натянута», а Мережковианство. Не знаю, чем-то эти переговоры с с.-р. напоминают московские переговоры с капиталистами.
Белый должен был приехать третьего дня. Я молчу. Я не показываюсь. Напылит, нагремит, напророчит. Уж очень много пыли. Хоть бы дождичка!
Тишина у вас? Хорошо. Только не читайте Фета в жаркую погоду, нельзя, он (между нами) от жары закисает. А я все стучу по барометру. Он падает, а я огорчаюсь, хотя — зачем мне хорошая погода? Писал я стихи, да что-то перестал. Впрочем, может быть, еще запишу. Только дошел до «Геркулесовых столбов»[78]: рассердился на петуха и погрозился оставить его любовь без рифмы. Должно быть, очень глупо вышло. Это вот — что я делаю.
Чего не делаю, но хочу? Да хочу написать на тебя пашквиль, а он не клеится. Я зато понял, почему хочется пашквиля: иначе — Малороссия.
Прощай пока. Я тебя тоже целую и люблю. Лидию Яковлевну благодарю за память и кланяюсь ей низко.
Я все это время очень добрый, приятный в обхождении. Поэтому, если напишу стихи, — то все злые.
Твой Владислав.
Гиреево, 7 июня 09.
Адрес. Ст. Кусково, Моск. — Ниж. ж.д., им. Старое Гиреево[79], мне.
Да, прислали мне из «Острова» через Ремизова комплименты и за стихами. На днях пошлю[80]. Экая все ерунда.
Пиши.
Прости — четыре дня носил в кармане. Но за это время ничего не произошло — можно отправить.
Пишешь ли что? Или не спрашивать? Ну ладно, валяй.
В.Х.
11 июня.
5. С.В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
Июнь 1909.
Дух мой позывает
Ко испражненью прежних дней[81]
А. П.
Увы! лирическим посланьем
Тебя я не взволную вдруг.
Души тоскующей признаньем
К чему тревожить твой досуг?
Свои мне вздохи надоели,
Попробую писать о деле.
Стихами больше не грешу,
В последний*, может быть, пишу.
Не по своей, ты знаешь, воле
Я начал к ним охладевать,
Но «Вам пишу, чего же боле».
И это должен ты понять.
Что делать! Ямб четырехстопный,
Услужливый и расторопный,
И тот мне начал изменять.
Не думай ты, что — новый Ленский —
В глуши счастливой, деревенской,
Вдали от толков городских,
Газет, журналов и родных
Брожу в лесу, копаюсь в Foeth’e
И мыслю: Johann Wolfgang Goethe
В подметки не годится мне.
Что, рифм плодя и строчек тучи,
«Порой мараю лист летучий»
Что пишется и рвется** мне.
И не в бездейственности важной
Мои проходят чинно дни.
И даже замысел отважный
Я бросил, тот, что искони
Питал мое воображенье:
Телесны силы укрепить.
Ты знаешь, в городе купить
Я вздумал Мюллера творенье[82]
И до сих пор не дочитал:
Там рубль, тут замысел пропал.
Но нет, — хотел писать о деле,
А вышло, сам не знаю, что,
Виной — размер. И еле-еле
Строфу докончил я зато.
Пора переменить размер и стиль.
Не удержу смеющейся личины
Я на лице, и горестную быль
Не выразит размер и легкий и невинный.
Нет! как-нибудь в ухабистых стихах
Поговорю о тяжком и полезном.
Жнецы последних дней, — что в сердце нашем? — страх!
«Век шествует путем своим железным!»
Не то беда, что «общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята»,
А то, что мы — идем мы в ногу с веком,
Забыли лозунг: «Выше века будь».
И все ж полезным человеком
Никто из нас не кончит путь.
Я не случайно написал, — о, нет —
Жнецы последних дней — о злейшая из истин!
И тот из нас, кто чист и бескорыстен,
Плоды чужих трудов, не сознавая, жнет.
А если сеятель рукой своей безвинной***
Напрасно семена бросал в бразды,
И мы, поднявшись до звезды,
Мы, вышедшие жать чредою длинной,
Пришли напрасно?! Если семена
Его при камени упали, —
К чему тот тяжкий труд, что мы на рамена, —
Никем не прошенные, — взяли?!
………………………………………………
О, наших дней пророк, разбей свои скрижали!
Стихам Россию не спасти****,
Россия их спасет едва ли,
Да было б гадко!.. Некуда идти,
Смириться разве? Я смирился.
Лида тебе кланяется. Я тоже. За стихи прости. В письмах делаюсь глуп, как Кольцов, бессвязен, как Кириллов[83]. Пиши скорее и больше.